Глава 2 «Обида»
Глава 2
«Обида»
Поздней осенью 1931 года Набоков трижды писал Бунину по литературным делам, связанным с переводами Бунина на английский язык. По поручению Бунина Набоков занимался розыском Макса Истмана (Max Eastman), переводчика с русского на английский и популяризатора Троцкого:
18-XI-31 27, Luitpoldstr<a?e>, Berlin W. 30
Дорогой и глубокоуважаемый Иван Алексеевич,
получив письмо ваше, я немедленно позвонил нескольким лицам, у которых мог надеяться достать какие-нибудь сведения о Максе Истмане[134], но никто о нем ничего не знает. Сегодня здесь праздник[135], все закрыто, так что только завтра будет возможно обратиться к двум книжным фирмам, имеющим дела с Англией. Если завтра узнаю адрес, напишу вам опять экспрессом. Боюсь, все же, что у немцев может и не быть адреса русско-английского переводчика (мне его имя как будто знакомо – но ломаю себе голову и не могу вспомнить откуда). Обращались ли вы к Ариадне Влад<имировне> Тырковой?[136] Она живет в Лондоне и прикосновенна к англо-русским литературным делам. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы Истмана разыскать, я был бы очень счастлив вам услужить. Главное: если б знать, какие книги он переводил и в каком издательстве они вышли. Простите, отвратительное почтамтское перо, трещит и плюется.
Крепко жму вашу руку,
искренне вам преданный
В. Набоков[137]
В ответном письме, отправленном после 18 ноября 1931 года, Набоков сообщал Бунину:
Дорогой и глубокоуважаемый Иван Алексеевич,
я обратился к двум книжным фирмам, они попытались разузнать что-нибудь, но тщетно. Спрашивал я всех, кто мог бы помочь, но тоже тщетно. Мне кажется, что единственный путь – это написать к какому-нибудь английскому издательству, выпускающему переводы с русского, например: Humphrey Milford, Oxford University Press (издавало Толстого)[138], – может быть, оно найдет Eastman’a? Здешний книжный магазин Asher[139] мне сказал, что если можно было бы выяснить, какие книги вышли в переводе Eastman’a, то была бы надежда его разыскать. Меня очень волнует мысль, что из-за такого пустяка может расстроиться такое важное дело.
Жму вашу руку,
душевно вам преданный
В. Набоков[140]
Наконец, 6 декабря 1931 года Набоков пишет Бунину:
Дорогой Иван Алексеевич,
кое-что выяснил: в Editions de la Nouvelle Revue Fran?aise вышли (кажется в 1929 г.) три книжки Max Eastman’a о русской революции (перевод с английского)[141]. Вероятно, N. R. F. знает его адрес.
Крепко жму вашу руку
В. Набоков[142]
Ответными посланиями мы не располагаем, так как письма Бунина за тот период не сохранились. В ноябре 1932 года Набоков приехал в Париж с выступлениями и не застал Бунина. В то время широко обсуждались шансы получения Буниным Нобелевской премии по литературе. 3 ноября 1932-го Набоков пишет Вере Набоковой из Парижа в Берлин:
У Алданова дома: <…> сперва рассуждали о том, получит ли Бунин Нобелевскую премию, а потом, и до самого конца вечера, завелся жаркий спор о современности и молодежи, причем <Борис> Зайцев говорил христианские пошлости, Ходасевич пошлости литературные, а мой милейший и святой Фондик <Фондаминский> очень трогательные вещи общественного характера, Вишняк изредка вставлял словцо, проникнутое здоровым материализмом, Алданов же и его родственник молчали[143].
Вести о триумфе Набокова в Париже, о том незабываемом впечатлении, которое его чтение произвело как на поклонников, так и на злопыхателей, докатились до Грасса. Три года прошло с осени 1929-го, когда Кузнецова привела в дневнике слова Бунина о том, что критики и читатели «просмотрели писателя»: «Пишет лет 10 и ни здешняя <парижская> критика, ни публика его не знает»[144]. Теперь, осенью 1932 года, Набоков очаровал парижскую эмигрантскую публику. 28 октября 1932 года Фондаминский пишет Бунину из Парижа: «С Алдановым видимся почти каждый день, устраиваем вечер Сирину (он очень милый), и даже Бор. Конст. <Зайцев> не очень жалуется»[145]. А вот выдержка из заметки о вечере Набокова в Salle du Mus?e Social 15 ноября 1932 года, опубликованной в газете «Последние новости»:
Полный зал, общее оживление, внимание к каждому слову лектора… Редко когда литературный вечер проходил так удачно, как вечер В. Сирина. Русский Париж проявил исключительное внимание к молодому писателю, в короткое время составившему себе крупное имя. В. Сирин читал в первом отделении стихи и небольшой рассказ «Музыка». Во втором – интереснейший отрывок из нового романа «Отчаяние». <…> Публика шумно аплодировала в начале вечера, еще горячее благодарила Сирина по его окончании[146].
В период с 1929 по 1932 год Набоков стал литературной звездой «Современных записок». Здесь уместно вспомнить, что как прозаик он дебютировал с рассказом «Ужас» в 1927 году[147]. Затем последовали публикации «Защиты Лужина» (1929–1930), рассказа «Пильграм» (1930), короткого романа «Соглядатай» (1930), «Подвига» (1931) и, наконец, романа «Камера обскура» (1932–1933). В 1931 году он впервые опубликовал рассказы в самой влиятельной из эмигрантских газет – «Последние новости». Литературная слава Набокова разрасталась по всей зарубежной России, от Лондона до Варшавы, от Белграда до Риги, от Шанхая до Сан-Франциско и Нью-Йорка. Он оказался в центре внимания эмигрантской публики[148].
Тщательное изучение дневников, писем и воспоминаний тех, кто окружал Бунина в начале 1930-х, позволяет установить, что нотки раздражения зазвучали в доме Бунина как раз в это время, после первого приезда Набокова в Париж и резкого взлета его популярности. 19 ноября 1932 года Вера Бунина записывает: «Его тут “принимают”. Больше всего с ним носятся И. И. <Фондаминский> и Алданов. И Сирин восхищается Алдановым, а Алданов Сириным»[149]. Зерна неприязни к Набокову сеяли и некоторые из друзей и близких Бунина (Л. Зуров, Н. Рощин <«Капитан»>). Борис Зайцев и его жена Вера Зайцева, с которыми Бунины близко дружили, были с самого начала настроены против Набокова. Вторя типичным антинабоковским высказываниям, исходившим прежде всего от Гиппиус и Мережковского (среди писателей старшего поколения) и от Георгия Иванова (среди русских парижан среднего поколения эмиграции), Зайцевы обвиняли Набокова в отсутствии веры и гуманизма. Он представлялся им «нерусским» писателем. Вера Зайцева в письмах отпускает язвительные замечания по поводу «увлечени<я> Сириным» в русском Париже. 30 ноября 1932 года, откликаясь на письма подруги, Вера Бунина записывает:
Письмо от Верочки Зайцевой, очень талантливо и хорошо дала Сирина. Так его и чувствую, конечно, до конца не договаривает. Теперь все стали дипломатами. Пишет, что он «Новый град» <религиозно-философское издание И. Фондаминского, Ф. Степуна и Г. Федотова в 1931–1938 годах> без религии. <…> Глядя на него, не скажешь: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». <…> Илья Исидорович <Фондаминский> милейший смотрел на Сирина влюбленно…[150]
Постепенно недоверие Веры Буниной к Набокову перерастет в открытую неприязнь. Под влиянием растущей славы Набокова, заворожившего эмигрантских критиков, и отчасти под влиянием друзей и близких Бунина, сеявших неприязнь к Набокову, менялось и отношение самого Бунина. Один из домочадцев Бунина, его «ученик» Леонид Зуров, к которому с материнской ревностью относилась Вера Бунина, откровенно завидовал Набокову и не скрывал своей враждебности. 11 февраля 1932 года Вера Бунина записала разговор, состоявшийся еще до триумфальной парижской поездки Набокова: «Леня рассказал, что Белинский говорил про некоторых писателей: “Бывают великолепно отделанные ножны, иссыпанные драгоценными камнями, а лезвия-то и нет, – так существуют и такие же писатели”. <…> – Вот и страшно за Сирина, – заметила я, – ножны удивительные, а вдруг окажется, что внутри ничего нет»[151]. 30 декабря 1932 года Бунина вновь приводит в дневнике высказывания Зурова:
Потом мы всю дорогу говорили о Сирине. Он <Зуров> мне говорил: «Я не хочу разблестываться, как Сирин, я даже вычеркиваю очень удачные сравнения, я как комнату свою просто держу, так и писать хочу. В этом я и от И. А. <Бунина> отличаюсь. У него только этот блеск временами, а за ним есть что-то серьезное. А у Сирина только блеск. Он взял эту особенность у Бунина и разблистался. Теперь другие даже и сравнивают Сирина с И. А. И. А. это может быть неприятно. Раньше он один умел так, а теперь и Сирин стал тоже делать, да только еще чаще»[152].

А вот тревожная запись Буниной, судя по всему, относящаяся к 1 апреля 1933 года:
Сирин написал роман «Отчаяние» и хочет, чтобы «Последние новости» печатали его… на последней странице, а к августу он окончит еще роман для «С<овременных> з<аписок>». Не слишком ли? Мне как-то страшно за него, как за писателя. Правда, это современно, но ведь когда писатель очень современный, это очень опасно – выдержит ли он, когда эта современность пройдет? Если даже он все время будет идти в ногу с современностью, то как после смерти? <…> Но они Сириным восхищаются очень. «Он единственный, что может конкурировать с Буниным»[153].
Такие отзывы все чаще и чаще звучали в доме Буниных. Тем не менее, невзирая на ядовитые выпады и колкости в семейном кругу, в 1932–1933 годах Бунин все еще был увлечен младшим современником. Оставались еще дружеские и преданные письма Набокова, а также его восторженная рецензия на стихи Бунина, к которым молодые поэты эмиграции не проявляли интереса[154]. Набокову дважды пришлось вступить в полемику о Бунине на страницах «Руля», яростно защищая его от нападок непочтительных молодых ниспровергателей (Вячеслав Лебедев, Алексей Эйснер)[155]. И главное, были рассказы Набокова, которые теперь публиковались в Париже, выделяя их автора среди собратьев по русскому зарубежью уникальностью стиля, композиции и тематики. Бунин понимал, лучше, чем большинство из эмигрантских читателей и критиков того времени, что Набоков в рассказах продолжал традицию, заложенную Чеховым, ту традицию, которую сам Бунин развил и обогатил в 1910–20-х годах[156]. Но Бунин отмечал в набоковской прозе и новаторство в структуре повествования, и метафизическую ориентированность. Прослеживая качественный рост прозы Набокова от ранних рассказов, часть которых вошла в сборник «Возвращение Чорба» к рассказам начала 1930-х годов, Бунин размышлял о роли, которую его собственные рассказы сыграли в творческом пути Набокова. Именно тогда Бунин стал осознавать в Набокове и наследника, и – все больше и больше – соперника.
* * *
В июле 1931 года в парижских «Последних новостях» был опубликован рассказ Набокова «Обида» с посвящением Бунину. Этот тридцать пятый по счету рассказ Набокова стал, судя по всему, его первой публикацией в популярной и влиятельной русскоязычной газете, где постоянно печатали Бунина. С 1930 по 1935 год Набоков опубликует здесь еще четырнадцать рассказов. Почему же Набоков выбрал для посвящения Бунину именно «Обиду»? К тому времени у Набокова не раз была возможность выразить благодарность одному из величайших мастеров рассказа. К 1931 году Набоков уже успел опубликовать сборник с пятнадцатью рассказами, в которых прослеживалось влияние Бунина. (Вспомним дарственную надпись Набокова на сборнике «Возвращение Чорба: «Великому мастеру от прилежного ученика. В. Набокова. Берлин XII. 29».) Некоторые из них до того были напечатаны в эмигрантских изданиях, включая «Современные записки», в которых также печатались лучшие произведения Бунина 1920-х годов – «Митина любовь», «Солнечный удар» и другие. Почему Набокову было не посвятить Бунину первую свою публикацию в «Современных записках», рассказ «Ужас»? А почему не рассказ «Пильграм», главный герой которого чем-то напоминает героя бунинского «Господина из Сан-Франциско»?
Набокова, несомненно, занимал вопрос о степени влияния Бунина на его прозу. Посвящение в рассказе «Обида» явилось тщательно взвешенным жестом, данью тем чертам стилистики и тематики Бунина, которые Набоков был склонен признавать в своих рассказах. Тематически «Обида» связана с целым рядом произведений Бунина, в основном написанных в 1890–1900-е годы; их действие разворачивается в русской деревне, и рассказывают они о душевных переживаниях подростков. Главный герой «Обиды» – Путя (Петр) Шишков, образ которого отчасти питается автобиографическими реминисценциями Набокова. Болезненно-застенчивый подросток с обостренной чувствительностью к любой фальши, Путя вынужден ехать на детские именины в соседнее поместье. Он не в ладах с педантичной старшей сестрой и, возможно, страдает от пробуждающейся сексуальности (на что Набоков лишь намекает). Путе неуютно среди ровесников, и они, заметив это сразу после его появления в усадьбе, начинают Путю игнорировать. Кроме того, Путя очарован Таней, «миловидн<ой> девочк<ой> с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом» (Набоков РСС 3:547; ср. Набоков, Правда 2: 348). Путя пытается завладеть ее вниманием, но, увы, другой подросток, крепкий и нахальный Вася Тучков, нравится ей больше. Финал рассказа – фраза, произнесенная соперником Пути, – являет собой приговор, вынесенный мальчику ровесниками: «А вот идет ломака» (Набоков РСС 3:553; ср. Набоков 1990 2: 354).
Узнаваемый тематический и стилистический фон «Обиды» Набокова обнаруживается по крайней мере в пяти рассказах Бунина: «Первая любовь» (1890), «На даче» (1895), «Кукушка» (1898), «Далекое» (1903) и «Митина любовь» (1925). В рассказе «Первая любовь», самом раннем из перечисленных (и перекликающемся с Тургеневым не только названием), описана усадьба и три мальчика-подростка, которые, подобно Путе, Васе и Володе в «Обиде», представляют собой авторское «воспоминание о давнем собственном “я”, распределенном здесь между тремя мальчуганами»[157]. Митя, главный герой, влюблен в Сашу, кузину своего друга, и ужасно стыдится сознаться в этом остальным мальчикам. Как набоковский Путя, Митя мечтателен; его терзают различные комплексы, которые только обостряет подростковая бравада приятелей. В конце «Обиды» можно услышать эхо отчаяния Мити в кульминационной сцене бунинской «Первой любви», в которой дядя мальчика дразнит его в присутствии Саши и ее приятельниц. От рассказа Бунина «Первая любовь» тянется нить к более позднему рассказу, «Кукушка», где также описаны три подростка в поместье; одного из них тоже зовут Митя. Если Путю Шишкова можно воспринимать как подростка-предшественника одного из самых памятных героев Набокова, поэта Василия Шишкова, то в Мите из «Первой любви» и «Кукушки» легко заметить некоторые нарождающиеся черты главного героя «Митиной любви» (1925), одной из лучших новелл Бунина периода эмиграции. «Митина любовь», действие которой частично разворачивается в русской усадьбе, привлекла внимание критиков из-за новаторства в изображении сексуальности молодого героя[158]. Само место действия и декорации «Обиды» обнаруживают и некоторое сходство с бунинским рассказом «На даче» (1895), классическим «дачным» рассказом с чеховским повествовательным течением. Наконец, короткий рассказ, написанный Буниным в 1930 году и также озаглавленный «Первая любовь», вполне мог дать Набокову непосредственный импульс к написанию «Обиды»[159]. В этом рассказе Бунина перед нами предстает подросток, влюбленный в гордую, не по летам развитую девочку. Герой Бунина, на которого похож набоковский Путя, играет со сверстниками, в то время как он пребывает на грани отчаяния и едва не плачет. Параллели между набоковским рассказом «Обида» и бунинскими «На даче», «Первая любовь» (1890), «Кукушка», «Митина любовь» и «Первая любовь» (1930) вполне можно объяснить не до конца сознательной попыткой молодого писателя вступить в диалог со старым мастером, а также общим композиционным фоном, топосом русской усадьбы[160]. Однако есть у Бунина замечательный рассказ «Далекое», написанный еще до революции, из которого Набоков позаимствовал и конкретные словесные мотивы.
Бунин дважды переработал «Далекое» и в эмиграции опубликовал этот рассказ по меньшей мере трижды. В варианте 1937 года эта вещь представляет собой набросок к автобиографическому роману «Жизнь Арсеньева»[161]. «Далекое» изображает один день из жизни главного героя, девятилетнего мальчика Ильи. В отличие от набоковского Пути, он радуется этому дню, проведенному вместе с отцом на охоте. Первая половина рассказа посвящена описанию поездки на болото, а кульминацией второй становится сцена охоты и восторг Ильи. Отблески бунинского рассказа в тексте набоковской «Обиды» яснее всего видны в описании коляски, лошади и охотничьей собаки и некоторых подробностей природы. Оба рассказа, набоковский и бунинский, изобилуют упоминаниями трав, цветов и насекомых (в особенности кузнечиков), образами летнего неба и облаков, а также изображениями эффектов игры света и тени. У Бунина: «Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам – только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе – жаркое солнце» (Бунин СС 2: 286). У Набокова: «Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, – не разберешь, что ствол, что просвет» (Набоков РСС; 3:545; ср. Набоков 1990, 2: 346). Если учесть соображения, высказанные Набоковым в приведенном ранее письме 1938 года к Е. Малоземовой, то становится понятно, почему в тексте «Обиды» заметен и любимый бунинский цвет – лиловый. Молодой герой Бунина видит «лиловый куколь» (Бунин СС 2: 286). Набоковский Путя собирает ягоды – черничины с «лиловым блеском» (Набоков РСС 3:548; ср. Набоков 1990, 2: 349). Набоков обряжает кучера в «безрукавку», упоминающуюся в «Далеком». Для читателя, знакомого с рассказом Бунина, такие параллели создают ощущение узнавания – и в этом наслаждение от чтения. Тот же эффект порождают и повторенные Набоковым бунинские образы собаки, бегущей за коляской, и дегтярного запаха коляски. Разумеется, эти переносы образов из одного текста в другой могут быть хотя бы отчасти случайными. Однако, когда Набоков без всяких изменений переносит бунинский образ «атласной шерсти» (Набоков РСС 3:344; ср. Набоков 1990, 2: 345) с охотничьей собаки на лошадь, перед нами прямая отсылка к тексту-предшественнику.
Несмотря на ритмическое и стилистическое совершенство, по своей общей атмосфере «Обида» – один из наименее набоковских рассказов. Во многом попытка Набокова воспроизвести характерные достижения и приемы прозы Бунина удалась. Рассказ «Обида» показал, что Набоков может мастерски писать именно в бунинской излюбленной манере – сочинять психологические рассказы, в которых куски отстраненного повествования (от третьего лица) перемежаются с эмоциональными наблюдениями, окрашенными сознанием автора. Как и Бунин, Набоков насыщал свои рассказы описаниями природы, несколько экзотическими, но достоверными.
Но что-то в рассказе «Обида» чуждо самому духу искусства Набокова. Во-первых, здесь почти совсем нет той двуплановости, тех мимолетных перенесений главных героев из мира обыденного в мир иной, которыми отмечены лучшие рассказы зрелого Набокова. Во-вторых, несмотря на явную драму одиночества подростка-героя, повествование слишком гармонично, лишено резкости и психологического напряжения хотя бы по сравнению с другими рассказами Набокова того времени. Даже в сравнении с рассказом «Лебеда», непосредственным продолжением «Обиды», в последнем всего лишь несколько моментов абсолютного отчаяния, в котором игра слов (каламбур, анаграмма, омоним) и человеческая трагедия так же неразделимы, как неразделимы металитературное и метафизическое в прозе Набокова. В рассказе можно найти лишь несколько пассажей, где Набоков неповторимо виртуозен в искусстве «управления словами»[162]. В эпизоде, где Путя сталкивается со старой гувернанткой-француженкой, литературной родственницей «Мадемуазель О» из одноименного рассказа (а также главы его автобиографий), Набоков создает остраненную перспективу, передавая акцентированную русскую речь француженки посредством гибрида русских и французских слов, записанных латиницей: «Priate-qui? Priate-qui?.. Sichasse pocajou caroche messt» <Прят-ки? Прят-ки?… Сичас покажу карош месст> (Набоков РСС 3:551; ср. Набоков 1990, 2: 352). Подобной словесной игры не найдешь в рассказах Бунина. Забавная речь старой гувернантки, зашифрованная путем абсурдной логики, показывает отчаяние Пути и его отчужденность от всеобщего праздника. (Кстати, такой тип русско-французской каламбуристики на грани абсурда восходит к Толстому, у которого в «Войне и мире» Николай Ростов в момент душевной экзальтации прочитывает имя своей сестры Наташи (Natache) как зашифрованное французское слово «une tache» – «пятно».
Своей стилистикой и тематикой, а также посвящением дачный рассказ «Обида» дал понять старому мастеру и всей эмигрантской публике, в чем именно Набоков видит вклад Бунина в сотворение жанра современного русского рассказа, который Чехов преобразил, а сам Бунин отточил до совершенства. Но если в «Обиде» Набокова мы наблюдаем в основном стилистические и тематические пересечения, то целый ряд произведений Набокова 1920-х – начала 1930-х годов – как романы, так и рассказы – представляет примеры непрерывного диалога с Буниным, происходящего одновременно на многих уровнях текста, от композиции и сюжета до перенасыщенных смыслом деталей.
Первый такой пример – рассказ Набокова «Памяти Л. И. Шигаева», сочиненный в 1934 году в Берлине и опубликованный в том же году в Париже. Рассказ построен как некролог, написанный рассказчиком о покойном друге, русском интеллигенте-эмигранте. В том, как описана история дружбы рассказчика с этим кротким и чистым человеком, можно узнать реальные некрологи, написанные и опубликованные Набоковым в 1920–1930-е годы, особенно некрологи, посвященные памяти критика Юлия Айхенвальда, поэта Саши Черного и Амалии Фондаминской, жены Ильи Фондаминского[163]. Среди произведений Бунина эмигрантского периода есть одно, которое, по всей видимости, послужило предшественником вымышленному некрологу Набокова. Речь идет о рассказе «Алексей Алексеевич», опубликованном в Париже в 1927 году. Оба рассказа открываются прямым сообщением о смерти персонажа. У Набокова: «Умер Леонид Иванович Шигаев…» (Набоков РСС 5:648; ср. Набоков 1990, 4: 345). У Бунина: «Нелепая, непоправимая весть: Алексей Алексеевич умер!» (Бунин СС 5:367). За объявлением, которым открываются оба рассказа, следует череда разрозненных воспоминаний, частью анекдотических, связь между которыми ассоциативна. Бунинский Алексей Алексеевич и набоковский Леонид Иванович – очень разные люди; первый – жизнерадостный, несколько манерный человек, второй – застенчивый ученый, которому уютнее всего в стенах архивов и библиотек. В отношении рассказчиков к покойному другу также заметна значительная разница: Виктор (герой-рассказчик Набокова) говорит о своей привязанности к старшему другу, по-отечески опекавшему его, в то время как у Бунина рассказчик отзывается об умершем с иронической снисходительностью. Однако и у Бунина, и у Набокова образ ушедшего человека получился живым, поскольку вымышленные некрологи воспринимаются именно как воспоминания о реальных людях.
«Рождество», один из самых замечательных ранних русских рассказов Набокова, отсылает нас к рассказу Бунина «Снежный бык» (1911). Действие разворачивается зимой в загородном поместье. Мальчик в «Снежном быке» не умирает, как в «Рождестве» Набокова, но он страдает от панического страха: несколько ночей подряд он плачет во сне. Его отец, помещик по имени Хрущев (эту фамилию также носит дворянский род землевладельцев в рассказе Бунина «Суходол» (1911)), встает, чтобы успокоить и утешить его. В русской литературе найдется немного произведений, где так пронзительно передано ощущение отцовской боли и страха за сына, нежности и заботы, как в «Снежном быке» Бунина и «Рождестве» Набокова. Несмотря на то, что и у Бунина, и у Набокова действие происходит в дворянских усадьбах и оба рассказа сосредоточены на изображении отцовской любви, нетрудно заметить существенную разницу между бунинским и набоковским художественным миром. Хрущев выходит зимней ночью на улицу, чтобы уничтожить то, что он считает причиной кошмаров и страхов сына, а именно уродливое снежное изваяние быка, отбрасывающее страшные тени на потолок комнаты сына. Разрушив снежного быка, он обходит двор, восхищаясь умиротворяющей земной гармонией зимних окрестностей. Набоков предлагает своему герою-избраннику Слепцову иной способ справиться с болью: спасительная метафора инобытия, огромная индийская бабочка-ночница, помогает ему преодолеть боль потери и сохранить идеализированные воспоминания об умершем сыне-подростке.
Еще один пример диалога Набокова с Буниным, на этот раз на уровне архитектоники характера, мы находим в «Пильграме» (1930), одном из лучших рассказов Набокова. Пильграм, главный герой, внешне кажется типичным бюргером, но на самом деле живет прекрасными метафизическими мечтами; всю жизнь он готовится к дальним странствиям. Стоя за прилавком своего убыточного берлинского магазинчика, Пильграм мысленно отправляется в ежедневные путешествия, и маршрут его включает Острова блаженных, Корсику, Андалузию, Далмацию и другие экзотические края. В «Пильграме» заметны параллели с «Господином из Сан-Франциско» (1915), одним из высших достижений дореволюционного творчества Бунина. Как и Пильграму, господину из Сан-Франциско никогда не удавалось пожить в свое удовольствие, несмотря на то что ему уже около шестидесяти. Он делец, много работает и надеется однажды предпринять путешествие по «Европе, Индии, Египту», где «люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью» (Бунин СС 4:308). Герой Бунина умирает на райском острове Капри, едва исполнение его земных и чувственных мечтаний достигает кульминации, а Пильграма убивает роковой удар незадолго до того, как его фантастическая мечта отправиться в энтомологическую экспедицию становится реальностью[164].
Можно было бы продолжать перечень перекличек между произведениями Бунина и Набокова, но я остановлюсь здесь, чтобы высказать несколько обобщающих наблюдений. Прежде всего Набоков научился у Бунина искусству интонации и ритма в прозе. У больших писателей есть узнаваемая интонация – функция как синтаксиса, так и семантики. Ритм прозы Бунина не раз становился предметом исследований. И Эмма Полоцкая в России, и Елизавета Малоземова в США подчеркивали роль поэзии Бунина в формировании узнаваемой интонации его собственной прозы[165]. Закономерно ожидать в рассказах Бунина и Набокова, писавших и стихи, и прозу, наличие близких просодических структур. Для иллюстрации того, что я подразумеваю под «бунинскими интонациями» в рассказах Набокова, сопоставим два пассажа: первый – из «Господина из Сан-Франциско» (1915) Бунина, второй – из «Пильграма» Набокова (1930). В обоих отрывках речь идет о воображаемых поездках, которые в своей реализации приведут героев к смерти.
Вот отрывок из текста Набокова:
Он <Пильграм> посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот, другой остров – давнюю любовь охотников, – где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север – болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, – и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, – и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода» (Набоков РСС 3: 538; ср. Набоков 1990, 2: 405)[166].
А вот отрывок из рассказа Бунина:
В декабре и январе <господин из Сан-Франциско> надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, – любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же опускаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к Страстям Господним приехать в Рим…» (Бунин СС 4:309).
В обоих отрывках мы видим длинные сложные предложения, часто разделяемые точкой с запятой и связанные скорее семантически, нежели синтаксически. Интонация внутри каждого предложения цементируется сериями главных и придаточных предложений (одни из которых короче, другие – длиннее), сплетенных воедино с помощью союзов или без таковых (ср.: у Бунина «Монте-Карло, куда… общество, где… голубей, которые…» и у Набокова «аполлонов, которые… тракт, идущий… пропасти, где…»). (Длинные синтаксические периоды в обоих приведенных фрагментах состоят из нескольких длинных предложений, каждое из которых является сложносочиненным или сложноподчиненным.) Е. Малоземова еще до войны писала о значении «библейского синтаксиса» в прозе Бунина[167]. Под библейским синтаксисом понимается употребление Буниным союзов «и», «а» и «да» как в самом начале предложения, так и для соединения серий сложных предложений внутри пассажа или сложносочиненных предложений внутри сложного предложения. Подобная синтаксическая структура порождает просодически организованный поток прозы, последовательность отрывков равной длины, каждый из которых в данном случае начинается с союза «и»[168]. Примеры этой синтаксической структуры в бунинской прозе встречаются постоянно. В приведенных отрывках такая синтаксическая структура создает ритм заклинания или молитвы, передающий бесконечное путешествие, которое оба персонажа совершают в мечтах – a не в повседневной жизни.
Рассказ Набокова «Совершенство» (1932) демонстрирует поразительное сходство с бунинской интонацией. Величественное последнее предложение в рассказе «Совершенство», одно из самых длинных в русской новеллистике, состоит из одиннадцати самостоятельных предложений. Все они начинаются с союза «и». Такая длинная цепочка предложений почти одинаковой длины, начинающихся с одного и того же союза, создает заклинательно-медитативную интонацию, рождая у читателя ощущение открытости текста – причастности к иным измерениям бытия[169].
Что касается повествовательной структуры рассказов Набокова 1920-х и начала 1930-х годов, по крайней мере одну важную их особенность можно объяснить влиянием Бунина. Семь ранних рассказов Набокова («Месть», «Картофельный эльф», «Случайность», «Катастрофа», «Бахман», «Дракон», «Ужас») и пять рассказов среднего этапа («Пильграм», «Terra Incognita», «Совершенство», «Королек» и «Красавица») построены по излюбленной бунинской схеме, согласно которой венцом рассказа становится смерть (см., например, «Господин из Сан-Франциско», «Казимир Станиславович», «Петлистые уши», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина»). Среди ранних рассказов Набокова по меньшей мере в двух смерть действует очень уж по-бунински – как горючая смесь трагического и мелодраматического. В рассказе «Месть» молодая и неискушенная жена английского профессора обнаруживает в своей постели скелет, подложенный туда мужем-ревнивцем, и умирает от сердечного приступа. В «Картофельном эльфе», когда карлик Добсон падает с сердечным приступом к ногам Норы на железнодорожной станции, она безучастно произносит: «Оставьте меня […] я ничего не знаю… У меня на днях умер сын…» (Набоков РСС 1:141; ср. Набоков 1990, 1: 397). Кстати сказать, в «Картофельном Эльфе» прочитывается и пародия Набокова на мелодраматическую новеллу Бунина «Сын» (1916) – быть может, первая, но далеко не последняя литературная пародия Набокова на старшего современника[170].
В начале 1930-х годов Набоков продолжает использовать смерть как прием завершения – точнее, замыкания, – повествования. При этом в таких рассказах, как «Пильграм» и «Совершенство», уже можно различить первые признаки того спора Набокова с Буниным, который достигнет высшей точки в конце 1930-х годов, а потом перекинется через океан в пространство англо-американской культуры. Предметом спора станет то, как художники понимали этические и метафизические составляющие смерти. В рассказе «Королек» протонацистские головорезы убивают своего соседа – носителя славянской фамилии за то, что он иностранец и выше их ксенофобски-мещанского восприятия мира. Смерть здесь выступает одновременно и как инструмент человеческого конфликта, и как отражение исторической ситуации, и позволяет Набокову связать свою собственную эстетику с обезображенной этикой окружающего его общества. В «Корольке» Набоков разделяет глубокую озабоченность Бунина насилием в обществе и смертью как его неизбежным следствием. Сама повествовательная структура рассказа Набокова отражает немецкое общество накануне прихода нацистов к власти.
Набокову конца 1920-х–1930-х все еще близки взгляды Бунина, согласно которым художественная форма запечатлевает очертания повседневности. Если вспомнить тираду Соколовича, маньяка-убийцы с «идеями» из рассказа «Петлистые уши», «каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут… каждый пастор знает, что в Библии слово “убил” употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное. <…> Скоро Европа станет сплошным царством убийц» (Бунин CC 4: 390–391). Но уже в рассказе «Красавица» (1934) – и особенно в «Пильграме» и «Совершенстве» – отход от бунинской концепции смерти очевиден. Двадцать с лишним лет спустя, в 1963 году, в предисловии к новому изданию романа Bend Sinister («Под знаком незаконнорожденных») Набоков напишет: «there is nothing to fear, death is but question of style, a mere literary device, a musical resolution»[171] (в русском переводе Сергея Ильина: «Бояться нечего и смерть – это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы» (Набоков ACC 1: 202)). В руках Бунина смерть – несомненно, прием, но в художественной вселенной писателя смерть-прием означает гораздо большее, чем «вопрос стиля» и «разрешение… темы». Финалы «Пильграма» и «Совершенства» сосредоточены на смерти главного героя не в том смысле, психологическом и физическом, в котором читатели Бунина привыкли ее видеть, а на переходе в иномирное пространство. Такой метафизический опыт главного героя эхом отдается в памяти читателя после того, как сняты «тусклые очки» (Набоков РСС 3:600; ср. Набоков 1990, 2: 419) и создатель героя – Набоков – объявляет о его смерти.
О том, что уже в начале 1930-х годов Набоков с меньшей охотой признавал себя «прилежн<ым> ученик<ом>» Бунина, говорит лаконичное замечание в письме жене, отправленном в Берлин из Праги 12 апреля 1932 года. (В Праге еще с 1920-х годов жила мать Набокова с младшими детьми, и это была пятая, предпоследняя поездка Набокова в Чехословакию.) «Я не мог одолеть маленькие шедевры Ивана Алексеевича в “Последних новостях”. А ты?» – пишет Набоков[172]. Как показала Ольга Воронина, речь идет о номере «Последних новостей» за 10 апреля 1932-го[173]. В эти годы Бунин переделывал ранние рассказы и печатал их в эмигрантских изданиях. Так было и с рассказами «Костер» (1902, 1932) и «Надежда» (1902, 1932), напечатанными в «Последних новостях» в тот день – 10 апреля 1932 года. «Костер» – виньетка о ночной остановке в степи, с ощутимым чеховским дыханием; «Надежда» – романтическая медитация, навеянная осенью у Черного моря и отплытием «сказочн<ой> плавуч<ей> колокольн<и>» к «новы<м> горизонт<ам>» (Бунин СС 2: 269). По сути это не рассказы в классическом жанровом смысле, а ярко оркестрованные словесные зарисовки. В них нет того судьбоносного столкновения любви и смерти – той заведенной Буниным-художником сюжетной пружины, которая делает лучшие бунинские рассказы совершенными и почти неповторимыми. Оценка Набокова, высказанная не публично, но в письме родному человеку, адекватно передает его изменившееся отношение к наследию прозы Бунина.
* * *
Вернемся к личным отношениям писателей на переломе. Их первая встреча состоялась в Берлине после получения Буниным долгожданной Нобелевской премии по литературе за 1933 год. Набоков, как и многие эмигранты, уже не думал, что это произойдет. 23 августа 1932 года он писал в Лондон Глебу Струве: «Бунина мне очень жаль. Пора-пора ему получить премию. Я не очень верю, что это получится, а жаль»[174]. О том, что Бунину присудили Нобелевскую премию по литературе за 1933 год, стало известно 9 ноября[175].
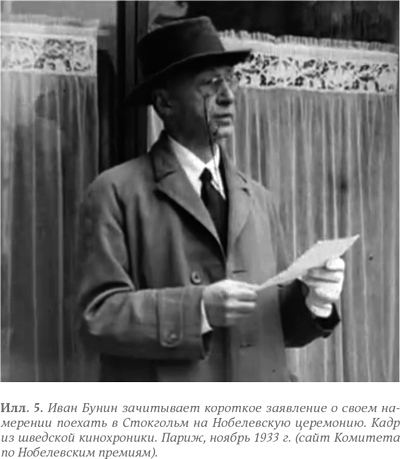
10 ноября 1933 года Набоков послал Бунину свои поздравления:
10-XI-33
Nestor str<a?e>, 22 Berlin-Halensee
Дорогой Иван Алексеевич,
я очень счастлив, что вы ее получили! Тут нынче только об этом и толкуют, поздравляют при встречах друг друга как с праздником, – чудное праздничное волнение, – и полное удовлетворение (коего мы столь долго были лишены, что почти от него отвыкли) двух чувств, – гордости и справедливости.
Жму вашу руку и горячо обнимаю вас
В. Набоков[176]
В письме Набокова обратный адрес – Несторштрассе, 22. Это минутах в десяти ходьбы от Курфюрстендамма, главной артерии Шарлоттенбурга. Здесь, в бывшем юго-западном предместье Берлина, Набоковы прожили с 1932 до 1937 года – до самого отъезда из Германии.
После нескольких неудачных попыток Бунин и Набоков наконец встретились, но только не в бунинском Париже, а в набоковском Берлине. До того они были знакомы лишь заочно и вот теперь увиделись в первый раз – в Шубертзале (Schubertsaal), 30 декабря 1933 года на вечере по случаю получения Буниным Нобелевской премии, организованном Иосифом Гессеном, с речами и чтением бунинских произведений. Хотя Бунина и не ожидали на чествовании, он все-таки приехал в последний момент[177]. Набоков произнес лирическую речь о поэзии Бунина, в которой повторил основные положения своей рецензии на «Избранные стихи» Бунина, написанной и опубликованной в 1929 году. Он также прочитал свои любимые стихи Бунина. В дневнике Буниной есть запись от 31 декабря 1933 года: «Сирин гораздо лучше понимает стихи Яна и звук их передачи правильный. Выбор хорош и смел»[178]. Оба писателя были сфотографированы вместе на сцене. Вот выдержки из эмигрантской газеты:
Русская колония в Берлине отметила приезд лауреата Нобелевской премии по литературе, И. А. Бунина, публичным чествованием. На эстраде знаменитого русского писателя приветствуют И. В. Гессен, бывший руководитель кадетской партии и редактор газеты „Речь“ – в России и „Руль“ – за рубежом. Аплодируют: справа поэт Сергей Кречетов, слева – талантливейший из молодых зарубежных писателей, В. В. Сирин (илл. 6)[179].

Бунин и Набоков, которые никогда раньше лично не встречались, стояли на сцене бок о бок, как две звезды русской литературы. Этой встрече предшествовала переписка, длившаяся более двенадцати лет. Она началась в 1921 году, когда Набоков был неизвестным молодым поэтом, а Бунин – королем эмигрантской литературы, последним классиком, которому не нужно было никому ничего доказывать – настолько незыблема была его литературная репутация. В течение первого этапа их диалога, завершившегося встречей в 1933 году, главной русской точкой отсчета в прозе для Набокова оставался Чехов, в то время как Бунин был живым представителем великой традиции русской литературы, одновременно и классиком, и современником, который продолжал развиваться и подталкивать Набокова на новые достижения. К концу 1933 года, когда слава Набокова распространилась по всей зарубежной России, он уже не мог – не хотел – воспринимать Бунина как своего учителя и наставника в литературе.
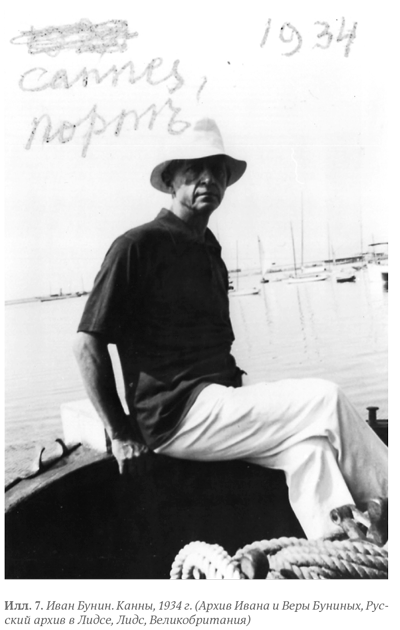
В Берлине Бунин и Набоков увиделись еще раз через несколько дней после торжественного вечера, в начале января 1934 года. Писатели вместе обедали, но о содержании разговоров между Буниным и Набоковым известно очень мало. (Почти двадцать лет спустя некоторые воспоминания об этой встрече воплотились в эпизоде автобиографии «Говори, память», который будет рассмотрен ниже.) Начался второй этап их отношений, длившийся с 1933 по 1939 год. Это было литературное состязание, в котором Набоков опережал Бунина.
* * *
После берлинских встреч конца 1933-го – начала 1934-го Бунин и Набоков не виделись два года, и об их контактах мало что известно. За это время литературная ставка Набокова взметнулась. Приведем два письма сотрудникам «Современных записок», где в 1930-е годы печаталась львиная доля прозы Набокова. 2 июня 1933 года старший современник Набокова, выдающийся юрист и общественный деятель Оскар Грузенберг пишет соредактору «Современных записок» Марку Вишняку о публикации романа «Камера обскура»:
Роман этот исключительно талантлив – и именно поэтому он мне неприятен: как Вы знаете, я не терплю повоенной Германии, а она в его романе показана с достаточной правдивостью в интимной жизни. Однако не об этом хотел сказать, – а вот о чем: конец романа превосходит все, что было талантливого, а порой и гениального, в русской художеств<енной> литературе. Такой сцены: какою Сирин закончил свой роман, нельзя назвать даже гениальной (это точное не то слово!): тут уже колдовство, ибо я никогда не думал, что человеческое слово может быть так выразительно. Я читал эту сцену вчера днем – и мне стало так страшно <…>, что я от страха выбежал на улицу. <…> Попомните мое слово: Сирин окончит сумасшедшим домом. – Разве можно так переживать, так писать![180]
11 мая 1934 в письме Вадиму Рудневу, в прошлом видному деятелю эсерской партии, Фондаминский предлагает ряд мер для «спасения» журнала, которому грозило финансовое банкротство. Эти меры включают в себя сокращение расходов и модернизацию журнала – «установку на писателей молодого поколения» (я цитирую историка культуры эмиграции Манфреда Шрубу[181]). «Из наших журнальных беллетристов я оставил бы только <троих> – Бунина, Алданова и Сирина», – писал Фондаминский[182].

Реакции Бунина на публикации прозы Набокова дошли до нас в письмах к коллегам по литературному цеху. От интереса и осторожного одобрения конца 1920-х – начала 1930-х годов Бунин в середине 1930-х переходит к все возрастающей враждебности[183]. 17 июля 1935 Бунин из Грасса пишет Рудневу раздраженное письмо по поводу первой трети «Приглашения на казнь»: «Сирин привел меня в большое раздражение – нестерпимо! Чего стоят одни эти жалкие штучки: § 1, § 2 и т. д. Почему §? И так все – ни единого словечка в простоте – и ни единого живого слова! Главное – такая адова скука, что окна стекла хочется бить. Это между нами, дорогой
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 35 Кем был Шекспир? Глава дополнительная и имеющая характер некоего расследования
Глава 35 Кем был Шекспир? Глава дополнительная и имеющая характер некоего расследования I Фрэнсис Бэкон был человеком поразительного интеллекта, и сфера его интересов была чрезвычайно широкой. По образованию он был юристом, с течением времени стал лордом-канцлером, то
Глава 5. Глава внешнеполитического ведомства
Глава 5. Глава внешнеполитического ведомства Утрата гитлеровской Германией ее завоеваний стало следствием не только поражений на полях сражений ее войск, отставания в области вооружений и банкротства ее расистской идеологии, на основе которой были предприняты попытки
Глава 3
Глава 3 Вывод: Первая и главная причина развала Союза, навязанный Америкой, третий виток гонки вооружений.Во второй половине семидесятых годов в Афганистане сместили шаха, и к власти пришла Народная Демократическая партия. Возглавил ее Нур Мухаммад Тараки. Он был лоялен
Глава 4
Глава 4 В управлении страной Советов восьмидесятых годов реальный разум, анализ, решительные действия ужу давно уступили старческой маразму, пассивности, застою. После эпохи Брежнева, Союзом короткое время руководил уже серьезно больной Андропов, народ ждал крутых
Глава 23. Глава кровавая, но бескровная, или суета вокруг дивана
Глава 23. Глава кровавая, но бескровная, или суета вокруг дивана Комиссия МВД обследовала также подземный кабинет Гитлера, а кроме того, все помещения по пути из кабинета к запасному выходу из фюрербункера.Сразу же отметим несоответствия в исходящей от Линге информации: в
Глава 67
Глава 67 «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит». И. Гете Мне кажется, что настала пора познакомить читающего эти строки с автором написанного, то есть «какого он рода-племени».Мой отец Павел Николаевич Толмачев-Ротарь из старинного рода новгородцев. Его род жил в
Глава 11
Глава 11 Центральное разведывательное управлениеЛэнгли, штат Виргиния23 ноября 1963 года, субботаВ первые часы после трагедии второй по значимости человек в ЦРУ, заместитель директора Ричард Хелмс, решил привнести хоть какой-то порядок в лихорадочные поиски информации
Обида колокола
Обида колокола Львовский хронист Томаш Юзефович в 1659 году записал такую историю.Как-то польская торговка‚ услышав, как звонит большой колокол Успенской церкви‚ который в народе называли Кирилл, сказала украинской торговке:– Ну и грубо же звучит ваш Серило!Украинка
4. ГНЕВ, ОБИДА И НЕНАВИСТЬ
4. ГНЕВ, ОБИДА И НЕНАВИСТЬ Конференция 2000 года в Дарамсале, во время которой состоялась наша первая встреча с Далай-ламой, была посвящена главным образом деструктивным эмоциям. Ее материалы легли в основу книги Дэниела Гоулмана «Деструктивные эмоции», вышедшей в свет в 2003
Обида № 1
Обида № 1 Радость успеха была, конечно, смазана гибелью двух человек. О погибших и раненых животных никто уж и не вспоминал. Далеко не всем пришло в голову, что причиной первой гибели людей были главные руководители испытаний, в том числе и физики-ядерщики. В тот день 22
Обида № 2
Обида № 2 Еще в середине 50-х на Западе, появились публикации о создании в США «чистой» водородной бомбы. Поскольку радиоактивны только осколки ядерного деления, а продукты синтеза сами по себе вовсе не радиоактивны, то в «хорошей» термоядерное бомбе — то есть в бомбе, где
Обида № 3
Обида № 3 Она появилась, правда, еще до взрыва изделия, над которым Сахарова «работал в военном смысле впустую». С 1959 по 1961 год ни СССР, ни США, ни Англия не проводили ядерных испытаний, как бы соблюдая неофициальную договоренность.За это время Хрущев посетил Америку и
Глава 10
Глава 10 Путешествие в Швецию № 2Я думала, что в Швейцарии было холодно.Я не могла быть счастливее. Я только что прибыла в Швецию, богатую европейскую страну, и я была с привлекательным мужчиной, кто действительно заботился обо мне. Не успела еще я выйти из аэропорта, как
44. Обида
44. Обида Морской офицер, инженер-испытатель, капитан 2 ранга Игорь Евгеньевич Суворов, стройный, подтянутый, несмотря на свои сорок лет, быстро поднялся по ступеням на второй этаж технологической площадки, где готовилась к испытаниям новейшая торпеда. Он успел взять