2 x 2 = 5
2 x 2 = 5
…Слово в руках науки, которая есть сгущение мысли, является понятием. Слово в руках искусства, которое есть расточение подсознательного, является образом. Поэтому философ может сказать: красные чернила, но для поэта здесь непоборимая коллизия.
Искусство, несмотря на его жизнерадостность, несомненно, имеет общее с болью. Только страданиям присущ элемент ритмичности. Соловей поет аритмично, нет ритма в грозе, нет ритма в движениях теленка, задравшего хвост по весеннему двору. Но ритмично стонет подстреленный заяц и ритмично идет дождь. Искусство сильное и бодрое должно уничтожить не только метр, но и ритм.
Индивидуализированное сравнение есть образ, обобщенный образ есть символ.
В каждом слове есть метафора (голубь, голубизна; крыло, покрывать; сажать, сад), но обычно метафора зарождается из сочетания, взаимодействия слов: цепь — цепь холмов — цепь выводов; язык — языки огня. Метафора без приложения переходит в жаргон, например, наречие воров, бурлаков. Шея суши — мыс — это метафорично, но в разговоре бурлаков или в стихах символистов обычно говорится только шея, что является уже не метафорой, не образом, а иносказанием или символом.
Для символиста образ (или символ) — способ мышления; для футуриста — средство усилить зрительность впечатления. Для имажиниста — самоцель. Здесь основное расхождение между Есениным и Мариенгофом. Есенин, признавая самоцельность образа, в то же время признает и его утилитарную сторону — выразительность. Для Мариенгофа, Эрдмана, Шершеневича — выразительность есть случайность.
Для символизма электрический счетчик — диссонанс с вечно прекрасным женственным, для футуризма — реальность, факт внеполый, для имажинизма — новая икона, на которой Есенин чертит лик электрического мужского христианства, а Мариенгоф и Эрдман — свои лица.
Поэзия есть выявление абсолюта не декоративным, а познавательным методом. («Звуки строющихся небоскребов — гулкое эхо мира, шагающего наугад» — В. Шершеневич.) Футуризм есть не поэзия, потому что он сочетания не слов, а звуков. Футуризм внес то, чего так боялся символизм: замену содержания сюжетностью. Игнорируя историю развития образа, футуристы сочетали звуки и понятия, и таким образом те противодействовали материализации слов.
Страх перед тем, что перегрузка образами и образный политематизм приведут к каталогу образов, есть обратная сторона медали: натурализм и философичность приводят к каталогу мнений и мыслей.
Символ есть абстракция, и на нем не может строиться поэзия. Образ есть конкретизирование символа. Имажинизм — это претворение разговорной воды в вино поэзии, потому что в нем раскрытие псевдонимов вещей.
В искусстве может быть отвергнуто все, кроме мастерства. Даже гений подчиняется этому требованию. Гений замысла и не мастер творения в лучшем случае остается Бенедиктовым, в худшем — превращается в Андрея Белого. Для открытия Америки мало быть Веспуччи, надо еще найти плотника, который смог бы построить новый корабль.
Для того чтобы прослыть поэтом мысли, вроде Брюсова, вовсе не надо особенно глубоко мыслить. Любое словосочетание может быть предметом столетнего размышления философов и критиков. Защищая содержание от нападения формы, старики отлично знают, что в поэзии смысл допустим лишь постольку, поскольку он укладывается в форму. «Великие мысли» поэтов обычно зависят от удачной рифмы или необходимости подчиниться размеру.
Единицей в поэтическом произведении является не строфа, а строка, потому что она завершена по форме и содержанию. Это легко проверяется при переводах. Читая прозаический дословный перевод стихотворения, всегда можно установить: где конец строки.
Разве не замечательно, что футуризм все время базировался на прошлом. Хлебников — это пережиток древнеславянских народных творчеств. Бурлюк вытек из персидского ковра. Крученых — из канцелярских бумаг. Имажинисты знают только одно: нет прошлого, настоящего, будущего, есть только созидаемое. Творчество не интуитивно, а строго взвешено на весах современности. Творчество не покер, а строгий винт, где из случайной комбинации карт надо логически сделать самые мастерские выводы.
Во многих словах образ заключен в обратной комбинации букв (например, парень — рабень), (раб, рабочий), веко — киво (кивать), солнце — лоснится. Вероятно, со временем, если поэты не смогут победить образом содержания, они станут печатать свои книги справа налево, для того чтобы образ был очевиднее.
Несмотря на все видимые преимущества содержания над образом, образ не может исчезнуть и при какой-нибудь комбинации выявляется. Образ напоминает замечательную цифру 9, которая появляется всюду:
2 x 9 = 18 | 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 | 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 | 3 + 6 = 9 и т. д.
Наука уничтожает умножением девять образа, но из произведения искусства всегда легко получить первоначальный образ сложением разбитого произведения.
Новому течению в искусстве нужно не только сказать новое слово о новом, но и новое слово о старом, пересмотреть это старое и выбросить проношенные штаны. Вовсе неважно, что мы, имажинисты, отрицаем прошлое, важно: почему мы его отрицаем. Важно не то, что Христос говорил сбивчиво и что христианство — это сумма беспринципных афоризмов, а важно то, что Христос никогда не был преследуемым новатором, это был скромный рыбак, отлично уживавшийся с окружающим и делавший карьеру на буме своих учеников. Важно не то, что Пушкин и Языков плохи, важно то, что Пушкин плох, потому что он статичен, а Языков потому, что он суетлив.
Поэты никогда не творят того, «что от них требует жизнь». Потому что жизнь не может ничего требовать. Жизнь складывается так, как этого требует искусство, потому что жизнь вытекла из искусства. Когда сейчас от поэтов требуют «выявления пролетарской идеологии», это забавно, потому что забавна трехлетняя Нюша, «требующая» от матери права позже ложиться спать. Революция брюха всецело зависит от революции духа. Пора понять, что искусство не развлечение и не религия. Искусство — это необходимость, это тот шар, который вертится вокруг времени на прочной веревочке жизни. «Поэты должны освещать классовую борьбу, указывать пролетариату новые пути», — кричат скороспелые идеологи мещанского коммунизма. — «Василий! Иди, посвети в передней!»
История всего пролетариата, вся история человечества это только эпизод в сравнении с историей развития образа.
Футуризм красоту быстроты подменил красивостью суеты. Динамизм не в суетливости, а в статическом взаимодействии материалов. «За нами погоня, бежим, спешим!» — поет футуристическая Вампука. Динамизм вульгарный в нагромождении идей. Динамизм поэтический в смешении материалов. Не динамичен лаборант, бегающий вокруг колбы, но динамична тарелка с водой, когда в нее брошен карбит. В этом отличие футуристов от Мариенгофа. Футурист вопит о динамике и он статичен. Мариенгоф лукаво помышляет о статике, будучи насквозь динамичен. От пристани современности отошел пароход поэзии, а футуристик бегает по берегу и кричит: поехали, поехали!
Каждое десятилетие возникают в искусстве «мнимые модные величины». Рекламировали радий и 606, потом перешли на 914. Рекламировали мистический анархизм Блока, сказочность Городецкого, акмеизм. Сегодняшняя модная мнимая величина — пролетарское искусство.
Забудем о группе бесталанных юношей из Лито и Пролеткультов; не их вина, что этих юнцов посадили на гору: «сиди, как Бог, и вещай».
Пролетарское искусство не есть искусство для пролетариев, потому что перемена потребителя не есть перемена в искусстве, и разве тот же пролетариат с жадностью не пожирает такие протухшие товары, как Брюсова, Надсона, Блока, В. Иванова? Искусство для пролетария — это первое звено в очаровательной цепи: поэзия для деревообделочников, живопись для пищевиков, скульптура для служащих Совнархоза.
Пролетарское искусство не есть искусство пролетария, потому что творцом может быть только профессионал. Как не может поэт от нечего делать подойти к машине и пустить ее в ход, так не может рабочий взять перо и вдруг «роднуть» стихотворение. Правда, поэт может прокатиться на автомобиле, сам управляя рулем, правда, шофер может срифмовать пару строк, но и то и другое не будет творчеством.
То, что ныне называется пролетарским искусством, это бранный термин, это прикрытие модной вывеской плохого — товара. В «пролетарские поэты» идут бездарники, вроде Ясинского или Князева, или недоучки, вроде Семена Родова. Всякий рабочий, становящийся поэтом-профессионалом, немедленно фатально порывает со своей средой и зачастую понимает ее хуже, чем «буржуазный» поэт.
Необходимо, чтоб каждая часть поэмы (при условии, что единицей мерила является образ) была закончена и представляла самодовлеющую ценность, потому что соединение отдельных образов в стихотворение — есть механическая работа, а не органическая, как полагают Есенин и Кусиков. Стихотворение не организм, а толпа образов; из него без ущерба может быль вынут один образ или вставлено еще десять. Только в том случае, если единицы завершены, сумма прекрасна. Попытка Мариенгофа доказать связность образов между собой — есть результат недоговоренности: написанные в поэме образы соединены архитектонически, но перестраивая архитектонику, легко выбросить пару образов. Я глубоко убежден, что все стихи Мариенгофа, Н. Эрдмана, Шершеневича могут с одинаковым успехом читаться с конца к началу, точно так же, как картина Якулова или Б. Эрдмана может висеть вверх ногами.
Ритмичность или полиритмичность свободного стиха имажинизм должен заменить аритмичностью образов, верлибром метафор. В этом разрушение канона динамизма…
Имажинизм не есть только литературная школа. К нему присоединились и художники, уже готовится музыкальная декларация. Имажинизм имеет вполне определенное философское обоснование. Одинаково чуждый и мещанскому индивидуализму символистов, и мещанскому коммунизму футуристов, имажинизм — есть первый раскат всемирной духовной революции. Символизм с головой увяз в прошлом философском трансцендентализме. Футуризм, номинально утверждающий будущее, фактически уперся в болото современности. Поэтический нигилизм чужд вихрю междупланетных бесед. Допуская абсолютно правильную предпосылку, что машина изменила чувствование человека, футуризм никчемно отождествляет это новое чувствование с чувствованием машинного порядка.
За пылью разрушений настало время строить новое здание. Футуризм нес мистерию проклятий и борьб. Имажинизм есть крестовый поход в Иерусалим Радости, «где в гробе Господнем дремлет смех». Познавание не путем мышления, а путем ощупывания, подобно тому, как «весна ощупывает голубыми ручьями тело земли». В имажинизме немыслим не только поэт слепец, как Козлов, но и читатель-слепец. Поймущий Тютчева, Бальмонта, слепец не поймет реальных образов Мариенгофа так же, как глухому чужда поэзия Бальмонта. Наши стихи не для кротов.
Радость в нашем понимании не сплошной хохот. Разве не радостен Христос, хотя, по Евангелию, он ни разу не улыбается. В огромном университете радости может быть и факультет страданий. Если подходит к травинке человек, она былинка, но для муравья она великан. Если к скорби подходит футурист, она для него отчаяние. Для имажинизма скорбь — опечатка в книге бытия, не искажающая факта. Искусство должно быть радостным, довольно идти впереди кортежа самоубийц. Имажинизм таит в себе зарождение нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка. Лозунги имажинистической демонстрации: образ как самоцель, образ как тема и содержание.
Имажинизм идеологически ближе к символизму, чем к футуризму, но не к их деятелям. Символизм поклонялся богам прошлой вечности, футуризм разрушал их, имажинизм создает новые божества будущего, из которых первым является он сам.
Если, с одной стороны, прав Мариенгоф, восклицая: «Граждане Душ, меняйте белье исподнее!», то, с другой стороны, правы Есенин и Шершеневич, когда первый пишет: «Зреет час преображенья… И из лона голубого, широко взмахнув веслом, как яйцо, нам сбросит слово, с проклевавшимся птенцом», а второй взывает: «Люди, рассмейтесь, а я буду первый в хороводе улыбок, где сердца простучат; бросимте к черту скулящие нервы, как в воду кидают пищащих котят».
Ломать грамматику
Пешковскому
В «нет никаких законов» — главный и великолепный закон поэзии.
В самом деле: «Поэзия есть возвышенное сочетание благородных слов, причем эти слова сочетаются таким образом, что ударяемые и неударяемые слова гармонично и последовательно чередуются», — писал благородный дедушка русской поэтики Ломоносов. Что уцелело от этого пафосного определения?
Дон-Кихот русской поэтики А. Потебня (известно, что Веселовский или Белый только Санчо Пансы) когда-то сказал: «Совершенствование наук выражается в их разграничении относительно цели и средств, а не в смешивании; в их взаимодействии, а не в рабском служении другим».
С неменьшим успехом это применимо к искусствам. Чем независимее искусство от другого искусства, тем больше энергии уходит в непосредственное изучение того материала, с которым ему приходится оперировать.
Еще до сих пор аристократы глупости изучают звуковую природу слова, подсчитывают число ускорений у Пушкина, создают трехдольные паузники, или, наконец, с упорством онаниста подсчитывают звуковые повторы и параллелизмы. Это все равно, что, желая изучить психологию крестьянина, вымерять число аршин ситца на платье его бабы. Более смелые откинули от слова все, кроме слова как такового, следят с восхищением образ слова.
Всякому ясно отличие образа слова от содержания слова, от значения слова, от идеи слова. Однако вряд ли все с очевидностью задавались вопросом: каково взаимоотношение между образом слова и местом слова во фразе? Другими словами: есть ли образ слова величина постоянная или переменная. А это выяснение особенно важно в наши дни, когда в чередовании и последовательности образов откинут правильный размер образологии и воцарен вольный порядок образов.
Как любопытный пример: в китайском языке «тау» означает «голова», но не голова, как верхушка человеческого тела, а голова, как нечто круглое. «Син» значит и сердце, и чувство, и помыслы. Но сочетание «синтау» обязательно «сердце», ибо от тау идет образ округлости, а от син внутренности. «Жи» значит день; но образ округлости, переходя от тау к жи, влечет за собою то, что «житау» значит дневная округлость, т. е. солнце.
Образ слова в китайском языке тесно зависит от лучевого влияния соседних слов.
Наши корни слов, к сожалению, уже слишком ясно определяют грамматическую форму. Это не нечто самовоспламеняющееся, это не органическое самородящее вещество. Это только калеки слов грамматических. Потому что «виж» это уже глагол, ибо существительное «вид», да еще глагол определенного числа и лица. Наши корни это дрова, осколки когда-то зеленого дерева.
Но и в них есть возможность воздействия, есть способ превращения того обрубленного образа, который гниет в них.
Слово орущее:
— Долой метрику стиха, долой ходули смысла и содержания! — вырвавшееся из тюрьмы идейности, тщетно пытается ныне в прериях стихотворения разбить кандалы грамматики, оковы склонений, спряжений, цепи синтаксической
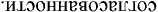
«Как теперь далее брать отец мать больной любить ты группа относительно сердце внутренности сказать один сказать», — это не бред Крученых: это дословный перевод китайского: «жукин тсие на фуму тунгнгай нимен ти синтшанг све и све», что значит: теперь далее, переходя к горячо любящему вас сердцу родительскому, скажем о нем пару слов.
Что общего? Из анархической вольницы возникает организованное войско путем взаимовлияний образов одних слов на соседние.
К сожалению, русский язык слишком завершенный, не допускает такой фантастики. Закованный в латы грамматики и, главное, грамматических форм и согласований, каждый русский оборот напоминает рыцаря в тяжелой броне, который еще мыслим на коне, но, слезши с коня, являет пример черепаший и условно безобразный, вроде символиста, пишущего амметрическим стихом.
Слово на плоскости — вот пошлый идеал нынешнего поэтического обихода, монета выражений и любовных ромеонствований. Ныне встает из гроба слово трех измерений, ибо оно готово мстить. На великолепных плитах вековой гробницы слова — русской литературе — иные безобразники уже учредили отхожее место Достоевского и Челпанова.
Плоскостное слово ныне постепенно, благодаря освещению образом, начинает тремериться.
Глубина, длина и ширина слова измеряется образом, смыслом и звуком слова. Но в то время как одна из этих величин — смысл — есть логически постоянное, два других переходные, причем звук внешне переходное, а образ органически переходное. Звук меняется в зависимости от грамматической формы, образ же меняется об аграмматическую форму.
Когда-то Хлебников пытался найти внутреннее склонение слов. Он доказывал, что «бок» это есть винительный падеж от «бык», потому что бок это место, куда идет удар, бык — откуда он идет. Лес это место с волосами, а «лыс» без волос. Он хотел доказать невозможное, потому что образ не только не подчинен грамматике, а всячески борется с ней, изгоняет грамматику.
В самом деле, в русском языке образ слова находится обычно в корне слова, и грамматическое окончание напоминает только пену, бьющую о скалу. Изменить форму этой скалы пена не может, ибо не скала рождена пеной, а пена есть порождение скалы.
Слово вверх ногами: вот самое естественное положение слова, из которого должен родиться новый образ. Испуганная беременная родит до срока. Слово всегда беременно образом, всегда готово к родам.
Почему мы — имажинисты — так странно на первый взгляд закричали в желудке современной поэтики: долой глагол! Да здравствует существительное!
Глагол есть главный дирижер грамматического оркестра. Это палочка этимологии. Подобно тому, как сказуемое — палочка синтаксиса.
Слово — это осел, ввозящий Христа образа в Иерусалим понимания. Но ведь осел случайный аксессуар Библии.
Все, что отпадает от глагола (прилагательное, как среднее между существительным и глаголом; наречие, причастие), все это подернуто легким запахом дешевки динамики. Суетливость еще не есть динамизм.
Поэтому имажинизм, как культуртрегерство образа, неминуемо должен размножать существительные в ущерб глаголу. Существительное, существенное, освобожденное от грамматики или, если это невозможно, ведущее гражданскую войну с грамматикой, — вот главный материал поэтического творчества.
Существительное это тот продукт, из которого приготовляется поэтическое произведение. Глагол — это даже не печальная необходимость, это просто болезнь нашей речи, аппендикс поэзии.
И поэтому началась ревностная борьба с глаголом; многочисленные опыты и достижения Мариенгофа (Магдалина, Кондитерская солнц), Шершеневича (в «Плавильне Слов», в «Суламифь Городов») и др., наглядно блестяще доказали случайность и никчемность глагола. Глагол — это твердый знак грамматики: он нужен только изредка, но и там можно обойтись без него.
Существительное уже окрашено изнутри; но все вокруг лежащие слова дают смешение красок, есть слова дополнительного слова. Однако, в большинстве случаев, соседние согласованные слова не изменят окраски, а только излишне повторяют лейтслово.
Поэтому так радостно встретить каждую неправильность грамматики, каждую аграмматичность.
Где дикий крик безумной одноколки,
Где дикий крик безумного меня.
Вторая строчка, слегка диссонирующая в грамматическом отношении, так очаровательно и трогательно прикрашивает всю архитектурную ведомость строки.
По тому же принципу, по которому футуристы боролись против пунктуации, мы должны бороться против пунктуации архитектурно-грамматической: против предлогов.
Предлог урезывает образ слова, придавая ему определенную грамматическую физиономию. Предлог это глашатай склонений. Уничтожение неожиданности. Рельсы логики. Предлог это добрый увещеватель и согласователь слов.
Если союз сглаживает ухабы, то предлог лишает меня слова. Он вырывает глыбу образа из рук и заменяет ее прилизанным и благовоспитанным мальчиком. Долой предлог еще более естественно и нужно, чем долой глагол.
Если глагол пытается дешевкой пленить деятельность образного существительного, то прилагательное изображает и живописует заложенное в существительном. Оно является зачастую той лопатой, которая из недр земли выкапывает драгоценные блестки. Основное преимущество прилагательного перед глаголом в том, что прилагательное не подвержено изменению по временам. Как бы скверно ни было прилагательное, мы не должны забывать благородства его крови.
Прилагательное — ребенок существительного, испорченный дурным обществом степеней сравнения, близостью к глаголу, рабской зависимостью от существительного. Прилагательное не смеет возразить ни числом, ни падежом, ни родом существительному, но оно дитя существительного, и этим сказано многое.
Прилагательное это обезображенное существительное. Голубь, голубизна — это образно и реально; голубой — это абстрагирование корня; рыжик лучше рыжего; белок лучше белого, чернила лучше черного. И поэт, который любит яркость и натуральность красок, никогда не скажет: голубое небо, а всегда — голубь неба; никогда — белый мел, всегда — белок мела.
И у современного языка есть несомненная тяга к обратному ходу: прилагательное уже пытается перейти в существительное обратно.
Портной, ссыльный, Страстная, Грозный, насекомое, приданое — разве это не существительное, имеющее грамматически прилагательную флексию. Да разве, наконец, само слово «прилагательное» не есть существительное? Есть целый ряд слов прилагательных, уже перешедших в существительное, другие только переходят (заказное).
Существительное есть сумма всех признаков данного предмета, прилагательное лишь один признак. Прилагательное, живописующее несколько признаков, будет существительным, но с прилагательною формою.
Это мы ясно видим хотя бы из того, что к массе прилагательных уже приставляются новые прилагательные, подчеркивающие одну сторону данного прилагательного. Например, резвая пристяжная, ходкое прилагательное и т. д.
Ближе к глаголу (изменение по временам) причастие. Но и оно, как отошедшее от глагола, иногда переходит в прилагательное, а более смелые даже в существительные (например, раненый, мороженое и т. д.).
Протяните цепи существительных, в этом правда Маринетти, сила которого, конечно, не в его поэтическом таланте, а в его поэтической бездарности. Но Маринетти силен своим правильным пониманием материала, и только сильная целевая приторность заставляет его уйти от правильного. Маринетти, потерявший когда-то фразу: «Поэзия есть ряд непрерывных образов, иначе она только бледная немочь», фразу, которую все книги имажинистов должны бы носить на лбу как эпиграф, уже требовал разрушения грамматики. Однако он требовал не во имя освобождения слова, а во имя большей убедительности мысли.
Все дороги ведут в Рим — грамматика должна быть уничтожена.
Существительное со своим сыном-прилагательным и пасынком-причастием требует полной свободы.
Театр требует освобождения от репертуара, слово требует освобождения от идеи. Поэтому неправ путь заумного языка, уничтожающего одновременно с содержанием и образ слова.
Не заумное слово, а образное слово есть материал поэтического произведения. Не уничтожение образа, а поедание образом смысла — вот путь развития поэтического слова.
Роды тяжелые, и мы, поэты, посредники между землею и небом, должны облегчить слову этот родовой период.
Смысл слова заложен не только в корне слова, но и в грамматической форме. Образ слова только в корне. Ломая грамматику, мы уничтожаем потенциальную силу содержания, сохраняя прежнюю силу образа.
Поломка грамматики, уничтожение старых форм и создание новых, аграмматичность — это выдаст смысл с головой в руки образа.
Причастие будущего, степени сравнения от неизменяемых по степеням слов, несуществующие падежи, несуществующие глагольные формы, несогласованность в родах и падежах — вот средства, краткий список лекарств застывающего слова.
Необходимо придать словам новое значение, чтоб каламбуры уничтожили смысл, содержание. Разве это не ясно на таких примерах, как: «мне страшно войти в темь», «мне страшно некогда», «пришла почта», «почта находится на углу».
Иногда суффикс придает род слову. Пример: шляпа и шляпка, из которых второе слово всегда знаменует дамскую, женскую шляпу.
Необходимо помнить всегда первоначальный образ слов, забывая о значении. Когда вы слышите «деревня», кто, кроме поэта имажиниста, представляет себе, что если деревня, то значит все дома из дерева, и что деревня, конечно, ближе к древесный, чем к село. Ибо город это есть нечто огороженное, копыто копающее, река и речь так же близки, как уста и устье.
Надо создавать увеличительные формы там, где их грамматика не признает. У нас есть только «лавка», надо вместо большая лавка говорить лава, вместо будка — буда (вроде: дудка — дуда); миска — миса или мис (лис).
Будем образовывать те грамматические формы, которые в силу того, что их не признает грамматика, будут аграмматичны. Слово «стать» имеет только родительный (стати). Надо писать: стать, стати, статью и т. д. Вокруг «очутится», «очутишься» появится «очучусь» и др., рядом со «смеюсь» «боюсь», «ленюсь» будут смею, бою, леню; выявим к жизни образные ничок, босик, нагиш, пешок из безобразных ничком, нагишом, пешком. Даже «завтра» запрыгает по падежам: за расстегнутым воротом нынча волосатую завтру увидь.
Дребезг, вило не хуже, чем дребезги и вилы, ворото образнее, чем ворота. Мы будем судорожно искать и найдем положительную степень от «лучший» и сравнительную от «хороший», именительный от «мне» и дательный от «я». «Я побежу» от «победить» ждет поэта.
Все эти новые формы, вызванные к жизни, как оружие против смысла, ибо смысл и содержание шокированы этими странными родами, заполнят скоро страницы книг и строки имажинистов.
Победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и с переходом к неграмматическим фразам.
Кубизм грамматики — это требование трехмерного слова. Прозрачность слова клич имажинизма. Глубина слова — требование каждого поэта.
Мы хотим славить несинтаксические формы. Нам скучно от смысла фраз: доброго утра! Он ходит!.. Нам милы своей образностью и бессмысленностью несинтаксические формы: доброй утра! или доброй утры! или он хожу!
Бесформенные слова мы яростно задвигаем по падежам: какаду, какада, какаде, какаду, какадою!
Подобно тому, как прилагательные движутся по родам: синий, синяя, синее, мы хотим властно двинуть по родам прилагательно-существительные: портной, портная, портное; насекомый, насекомая, насекомое.
Некогда Брюсов описался и сказал: все каменней ступени! Это первый и единственный проблеск у него. Но не будем смущаться тем, что не нам принадлежит честь в первый раз образовать степень сравнения от некоторых прилагательных. Их еще много, нетронутых и поджидающих!
По словам теоретиков грамматики, наречие есть выражение признаков, т. е. другими словами: наречие может относиться или к глаголу или к прилагательному. Но так как мы глубоко уверены, что тяга прилагательных к существительному очень велика и все усиливается, будем надеяться, что до тех пор пока наречие не исчезнет совершенно, оно может употребляться при существительном с неменьшим успехом, чем при прилагательном или глаголе. Скучно писать: скучно пишет, и гораздо сочнее: скучно писатель; однообразно и монотонно: поразительно красивый; и ярче: поразительно красота. Частично эта форма уже употребляется. Говорят, например, «он очень человек»; «он очень мужчина».
Времена глаголов неособенно твердо связаны грамматикой. Эта аграмматичность объясняется, ибо все надо объяснить, живостью речи! Характерное объяснение! Во имя этой живости речи сочетание: «иду я вчера по улице и смотрю», мы возводим в принцип. Долой согласованность времен! Долой согласованность лиц: «прикажи он, я бы исполнил», мы заменим, как правило, прикажите он, и я бы исполним! Или: я пойду вчера и наверное увидел!
Тысяча человек идет; тысяча человек идут — глагол не знает: кого ему слушаться. «Как поссорился Ив. Ив. с Ив. Ник.», на самом деле, читается «как поссорились». Все шатко! Все колеблется и лепится в форме трех измерений.
Народ иногда даже допускает полную асогласованность рода: каналья ушел, калика перехожая, судья неправедная. Почему же «для живости», «для образности» не мог я сказать: «огромная море»?
Необходимо создать формы: светаю, сплюсь, вечереешь, моросю, дремлешься, мне веселится, мне смеется, помощи не приходила.
Необходимо, наконец, создать причастие будущего по принципу: придущий, увидящий, прошумящий.
«Мое фамилье прошумящий веками» — вот образец аграмматической фразы подлинно поэтической речи.
Постепенно, благодаря отпаду глагола, неорганизованности, как принципа, образов стихи имажинистов будут напоминать, подобно строкам Сен-Поль Ру Великолепного, некий календарь или словарь образов. Этим не след смущаться, ибо лирический соус, такой привлекательный для барышень вербицко-северянинско-бальмонтовского стиля, не есть еще необходимый аксессуар поэзии. Я даже склонен думать, в ущерб своей личной оценке, что чем меньше лирики, как принципа, тем больше лиризма в образе.
Вот этими строками разрываю себя и все написанное до сих пор мной и кидаю в небытие. Потому что, не помышляя о новой Америке, вижу, как по течению признания заплываю в затон смысла и «глубоких идей».
Ныне ищется новый сплав поэтических строк; ясно, что последовательность, периодичность, согласованность и архитектура здания в провал обращены. Ослепительная пустота на месте всех определений; углубленно-осмысленный нуль на месте всех завоеваний, и вот уже скоро, устав от барабанного зова исканий, слабые духом провозгласят новый возврат к интимному тихому песнопению.
Когда на морозе тронуть пальцем замерзшее железо, — оно обжигает; также легко спутать регресс с прогрессом, также легко поддаться на удочку возвращения к реставрированной надсоновщине, которое мы наблюдаем теперь. Волки волчий облик потеряли и гаер-арлекин снова начинает балахониться под Пьерро.
Надо меньше знать! — вот принцип подлинного поэта-мастера. Или, вернее: надо знать только то, что надо знать.
От современной поэзии нет ожогов, есть только приятная теплота. Эта теплота должна перейти в жар. Для этого надо вырвать философию, соблазняющую нас. Надо перейти к огню образов. Надо помнить трехмерность слов, надо освободить слово, надо уничтожить грамматику.
Так подбираю я вожжи растрепавшихся мыслей и мчу в никуда свой шарлатанский шарабан.
Вадим Шершеневич
Февраль, 1920. 2 x 2 = 5. «Листы имажиниста». М., 1920.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК