О ВТОРОМ ПРЕБЫВАНИИ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ В НОВОЙ ГВИНЕЕ (от июня 1876 по ноябрь 1877)
О ВТОРОМ ПРЕБЫВАНИИ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ В НОВОЙ ГВИНЕЕ (от июня 1876 по ноябрь 1877)
Омоем третьем посещении Новой Гвинеи могу сказать, во-первых, что оно не сопровождалось такими помехами, какие приключились при второй экспедиции (на Берег Ковиай в 1874 г.), и, во-вторых, что, сообразно с моим наперед обдуманным планом, оно составляет во всех отношениях продолжение исследований, начатых во время первого пребывания на этом берегу в 1871–1872 годах.
Мой отъезд в декабре 1872 г. был слишком неожиданным, чтобы не пришлось оставить многих значительных пробелов в предпринятых работах; и если я согласился на отъезд, то это было только вследствие принятого мною уже тогда решения вернуться со временем на этот берег и дополнить, сколько возможно, все то, что приходилось оставить начатым и отчасти едва затронутым.
Направленный местными условиями при первом посещения Новой Гвинеи, главным образом, на исследования по антропологии и предоставив ее задачам указать мне направление пути при последующих путешествиях (при второй экспедиции в Новую Гвинею, путешествии на Малайском полуострове), я и на этот раз остался ей верным.
Предпринимая путешествие, я намеревался посетить несколько местностей и, выбрав одну из них, остаться в ней долее. Но впоследствии мне казалось, помимо других причин[61], вернее и целесообразнее не поддаться на приманку новизны, а, вернувшись сюда, на берег Маклая, продолжать и дополнять начатое.
Пересмотр перед отъездом из Явы (в декабре 1875 г.) сведений, добытых в 1871—1872-х годах о туземцах берега Маклая, по случаю публикации продолжения моих замечаний о них[62], весьма сильно повлиял на это решение: откинув то, в верности чего у меня оставалось сомнение, мне ясно представилось большое число пробелов и вопросов, оставшихся без удовлетворительных ответов. Зная язык и пользуясь доверием туземцев, я более чем кто другой был в состоянии дополнить уже добытые сведения о их нравах и обычаях.
Возвращаясь на берег Маклая, я уже не имел в виду предпринять дальней экскурсии во внутрь страны. Этот проект, несмотря на всю его заманчивость, я устранил еще при отъезде из программы моей деятельности 1876—1877-х годов, полагая, что и без такой экскурсии мне остается немало дела по дополнению неоконченного и неясного в прежних моих работах; к тому же, приобретение запасов и снарядов разного рода, наем необходимого контингента людей потребовали бы значительных расходов, средствами для покрытия которых я не располагал в то время.
К тому же, эти люди, совершенно необходимые для дальней экспедиции во внутрь страны,[63] были бы мне совершенно не нужны при продолжительном пребывании в Новой Гвинее и составляли бы даже в последнем случае положительное бремя. Не только их пропитание представляло бы затруднение, но даже сомнительно, что они ужились бы мирно с туземцами; во всяком случае, потребовались бы постоянный надзор за ними и разбирательство вероятных частых ссор между ними самими и между ними и туземцами. На все это пришлось бы жертвовать время, с которым европеец в этой интересной, но нездоровой стране должен обходиться весьма и весьма экономно.
С другой стороны, ватага слуг, окружающая путешественника, составляющая как бы живой забор, часто мешает непосредственному наблюдению им туземцев, нередко значительно влияет на сношения с последними, не говоря уже о том, что, внося при случае посторонний элемент в процесс мышления и во взгляды туземцев, запутывает и искажает сведения об их обычаях и воззрениях, которые при знании языка возможно получать непосредственно от них самих.[64]
Взятые мною три человека прислуги достаточно освобождали меня от докучных забот ежедневной жизни, а мое помещение в Бугарломе,[65] было настолько удобно, что я, отдыхая от небольших, несколькодневных, часто предпринимаемых экскурсий в окрестности, мог заниматься моими работами по сравнительной анатомии.
Начну с перечня главных работ, которые занимали мое время.
Во 1-х, работы по антропологии [66]. Я занимался при случае антропологическими измерениями[67], которые, вследствие недоверия и подозрительности папуасов, я не мог предпринять в 1871–1872 годах, но теперь, при старом знакомстве со мною, они не могли более отказывать мне и принуждены были побеждать свое отвращение к подобным, непонятным для них манипуляциям над их личностью.
Я увеличил также мою коллекцию дюжиною черепов, которые родственники умерших захотели предоставить мне; но, не желая злоупотребить доверием туземцев, был принужден оставить нетронутыми (иными словами, не украл) несколько, вероятно, полных скелетов, хотя знал, где они находятся; сами же туземцы не захотели понять моих весьма ясных намеков о том, что я желаю иметь скелеты.
Зная, что возможно добыть совершенно полные скелеты в разных госпиталях[68], я не желал поколебать легкомысленным шагом добытое с большим трудом доверие папуасов. Отсутствие фотографической камеры весьма чувствовалось: эту работу приходилось отложить до третьего посещения берега моего имени.
Во 2-х, мое внимание было, главным образом, направлено на вопросы по этнологии, ибо я сознавал, что нахожусь вследствие многих обстоятельств в удобном положении для наблюдения несмешанного и изолированного племени.
Кроме знакомства с туземцами и обоюдного доверия, сознание ими того, что если я и оставлю опять на время этот берег, то впоследствии снова вернусь сюда, заставляет туземцев мало-помалу менее стесняться моим присутствием и не изменять, не стараться скрывать постоянно свои обычаи и насиловать свою обыкновенную maniere d’?tre[69].
Немало помогает моему успеху в сохранении и укреплении доверия туземцев то, что я здесь единственный белый, который живет между ними; отсутствие других лишает туземцев мерила, которым они могли бы руководствоваться при оценке отношений к ним каждого белого в отдельности.

Но при всей обширности поля исследования, несмотря на все мое старание не упустить случая, чтобы познакомиться со всеми подробностями папуасской жизни, я должен сознаться, что мои успехи в этом отношении подвигаются крайне медленно. Кто имел случай поставить себе задачею наблюдение первобытного племени при ограниченном знании языка[70], тот знает, как туго идет вперед работа, если, относясь критически к каждому так называемому «открытию», отбрасываешь весь хлам неполных, неточных и искаженных посторонним влиянием наблюдений… Выражение «шаг за шагом» весьма недостаточно выражает всю медленность этого движения.
Расспросы у туземцев об их обычаях вследствие многих причин мало помогают,[71] так как приводят к ошибкам или к воображаемому разрешению вопросов. Единственный надежный путь – видеть все собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет о виденном, надо быть настороже, чтобы полную картину обычая или обряда дало не воображение, а действительное впечатление наблюдения.
Мне даже кажется полезным быть еще осторожнее: следует удержаться при этом описании виденного от всякого рода гипотез, объяснений и т. п. Далее, для каждого обряда, церемонии, обычая требуется соответствующий предлог; но эти предлоги, как на зло наблюдателю, представляются в некоторых случаях очень и очень редко.[72]

Несмотря на установившиеся дружественные отношения с туземцами, я единственно мог лишь рассчитывать на случай; чтобы видеть что-нибудь, я должен был случайно заставать туземцев на месте действия. Предупреждение о моем прибытии или приказ призвать меня, когда случится то и то, когда будут делать это или другое, были часто достаточны, чтобы повлиять на всю процедуру обряда.
Опытом я пришел к результату, что лучшим образом действия с моей стороны, для того, чтобы узнать и увидеть что-либо в неискаженном виде из обычаев туземцев, состоит в том, что я принимаю относительно всего сюда относящегося вид полнейшего равнодушия; только таким образом мне удается узнать кое-что из их интимной жизни, не измененное скрытничанием и суеверным страхом…
Несмотря на это утомительное движение по полушагу вперед, иногда же целый шаг назад[73], я продолжаю этот путь, подстерегая ежедневные и экстраординарные эпизоды жизни туземцев под видом полнейшего индифферентизма, иногда даже хитростью добываю по частям материал для их этнологии, поставив себе за правило верить единственно своим глазам и не поддаваться воображению.
Я тем более старался накоплять постоянно мои наблюдения в этом направлении именно потому, что эта сторона жизни скорее всего изменяется и исчезает, как только белый человек появляется между первобытными племенами.
Я вошел не без намерения в некоторые подробности относительно способов, которыми я пользовался при собирании материалов по этнологии потому, чтобы показать, через какой фильтр критики с моей стороны проходили собираемые сведения, и чтобы дать понятие о количестве времени и внимания, которыми я должен был жертвовать для их получения.
Я старался как можно менее вмешиваться в дела туземцев, старался не изменять их обыкновений и обычаев; только в одном случае я изменял роль беспристрастного наблюдателя, и уже не раз с успехом употребил мое влияние для предупреждения войн между деревнями. Об этом несколько слов ниже.
В 3-х. Я мог более удобно заниматься здесь сравнительно-анатомическими работами, чем на Гарагаси[74], где был очень затруднен теснотою помещения и образом моей тогдашней жизни, поглощаемой старанием сблизиться с туземцами, заботою о продовольствии охотою, терпел от недостатка в прислуге и т. п.
В этой сфере работы мое внимание сосредоточено, главным образом, на продолжении моих исследований по сравнительной анатомии мозга позвоночных и некоторых дополнениях по анатомии сумчатых. Не время и не обстановка мешали этим занятиям, а сравнительная редкость материала.
В 4-х. На метеорологические наблюдения было обращено должное внимание, и их результаты составят дополнение и проверку 15-месячных наблюдений 1871–1872 гг. Разумеется, пробелами остаются дни, посвященные на экскурсии. Термометры и оба анероида были проверены в метеорологической обсерватории в Батавии перед отъездом.
После этого обзора предметов моих занятий скажу несколько слов о более интересных экскурсиях, которые мне удалось совершить. Если, как сказал вначале, я не имел средств предпринять большое странствие вовнутрь страны, то от небольших экскурсий по окрестностям я не отказывался. Я начал их посещением многих деревень, которые по случаю войн между туземцами или по своей отдаленности мне были недоступны в 1871–1872 годах.
Это были деревни в горах южного и юго-западного берега залива Астролябии, причем преимущественно мною посещались деревни, за которыми (или выше которых) горы уже не населены. На юго-западе, где высокий береговой хребет понижается и распадается на несколько кряжей, находится большое число деревень и очень значительное население; но мне не пришлось далеко проникнуть в этом направлении, так как почти каждая деревня находится на военном положении относительно другой[75], и я не смог уговорить ни моих соседей, ни жителей ближайших гор сопровождать меня, но зато я обошел почти все горные деревни вокруг залива.
При этих экскурсиях я имел обыкновенно значительное число спутников из ближайшей деревни – Бонгу. Когда я доходил к вечеру или на другой день до одной из горных деревень, вся моя свита сменялась жителями последней. Люди Бонгу оставались ждать моего возвращения или уходили домой, если я их отпускал, что я обыкновенно и делал, когда не знал наверно, сколько дней продолжится экскурсия. Береговые жители, не имея сношений, не зная диалекта последующих деревень и отчасти не убежденные в своей безопасности между горцами, редко решались идти выше ближайшей цепи гор.
Переменяя раза по два или по три носильщиков моих вещей, причем для каждой палки и бутылки требовалось по человеку, я обходил деревни; если при первой встрече без страха со стороны туземцев не обходилось, то тем дружелюбнее были проводы (удовольствие отделаться от незваного гостя имело, в чем не сомневаюсь, немало влияния на это добродушие); часто приходилось отказываться от тяжеловесных изъявлений дружбы – обычных подарков съестных припасов на дорогу.
На возвратном пути провожатых набиралось обыкновенно очень много, так как в каждой деревне находились охотники взглянуть на «таль Маклай» (дом Маклая).
Если при этом способе путешествия я нередко должен был, соображаясь с туземными обычаями и характером, подчиняться многим их желаниям, что иногда было скучновато, то, с другой стороны, он представлял и серьезные выгоды. Посещая новые и отдаленные деревни, где имя мое едва было известно понаслышке, имея туземцев моими спутниками, я не только знакомился со взаимными отношениями туземцев, но мог получать и разъяснения многих вопросов, возникающих при новых встречах. Я не встречал боязливой замкнутости со стороны населения и мог свободно знакомиться со страною и людьми; немалое удобство было также иметь почти что всюду переводчиков.
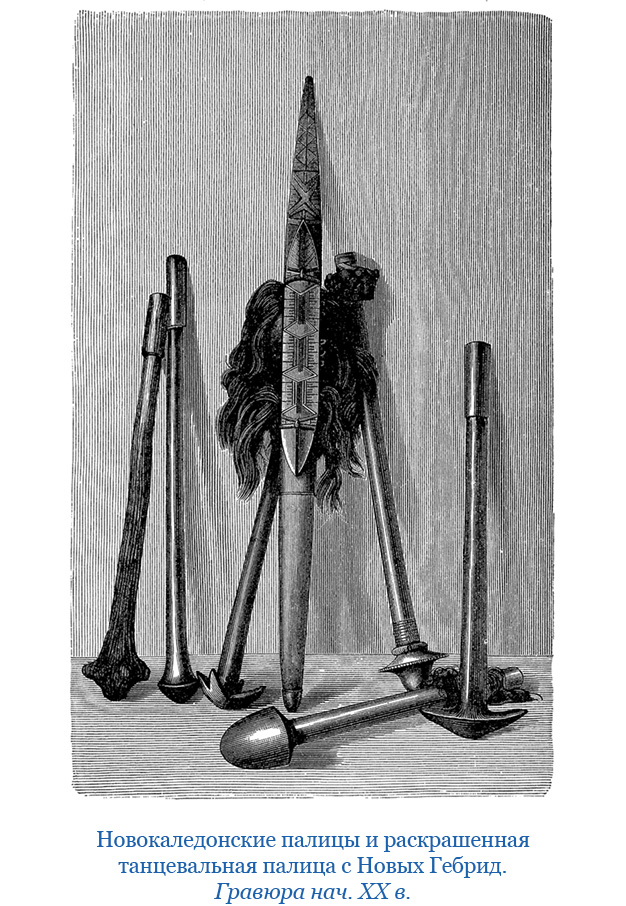
Более отдаленные, но не менее интересные экскурсии мне удалось сделать по морю близ берега, причем я снова воспользовался туземными средствами. Моя шлюпка, в которой я разъезжал по заливу, выходя даже за крайние мысы его, слишком мала (не достигает 4 метров у ватерлинии) для многодневного плавания; не имея тента, днем она представляла серьезное неудобство, не предоставляя возможности укрыться от солнца, и, забрав необходимую поклажу и провизию на несколько дней, с большим трудом могла помещать лишь 3 человек (2 гребца были необходимы в случае штиля).
В больших же пирогах острова Били-Били я не только мог разместить удобно все мои вещи, быть укрытым от солнца и дождя, но, главное, я был освобожден от всех работ и забот: быть капитаном, лоцманом и матросом моей шлюпки. Я посетил таким образом острова архипелага Довольных людей[76] и деревни у мыса Дюпере.
Я нарочно отправился в последнюю местность, узнав положительно, что люди Еремпи, населяющие с лишком 20 деревень, – людоеды. Я провел в одной из этих деревень, лежащей около небольшого озера, два дня. Они не разнились от моих соседей и хороших знакомых ни в антропологическом, ни в этнологическом отношении и отличались единственно обыкновением съедать после войн всех убитых, не разбирая при этом ни пола, ни возраста.
Так как людской мозг и мягкие части головы считаются ими очень вкусным блюдом и так как люди, как и вообще все животные, здесь съедаются без остатков, обглоданные же и раздробленные кости бросаются, как мне сказали, в море, то при этом посещении, вопреки моим расчетам, моя краниологическая и остеологическая коллекция не обогатилась. Мне кажется также, что им не часто приходится лакомиться этим родом пищи. Я посетил о-в Сегу, один из островов архипелага Довольных людей, где строят большие пироги и жители которого посещают иногда (однако же не каждый год) остров Кар-Кар (о. Дампьер).
Целью моего визита на остров Сегу было уговорить жителей его снарядить в скором времени экспедицию в Кар-Кар, в которой я сам думал участвовать.[77] Жители островков Били-Били и Ямбомбы, занимаясь горшечным производством, имея большие пироги и посещая значительное протяжение берега материка Новой Гвинеи, находятся, благодаря своим торговым сношениям[78], в мире с большинством береговых деревень и могут безопасно посещать их.
Разузнав мало-помалу все подробности этих экспедиций, мне удалось после долгих прений, множества отговорок и задержек разного рода нанять две пироги, в которых я в сопровождении двух слуг (оставив третьего в Бугарломе) и четырех туземцев для управления пирогами отправился вдоль берега по направлению к мысу King William с целью посетить деревни, имена которых я часто слышал от жителей Били-Били. По случаю преобладающего юго-восточного ветра, который дул большую часть дня[79], мы продвигались единственно ночью, пользуясь береговым ветром, который дул ровно, но с достаточною силою.
Таким образом, почти каждую ночь мы делали переходы, причем темнота не мешала нам, потому что фарватер на 1,5 или 2 мили от берега не представляет никаких опасностей (за исключением банки около деревни Бай, в полумиле от берега). К утру мы останавливались около селений, где проводили день или несколько дней, смотря по интересу, который представляло для меня селение и его жители.
Посещенный берег, как и вокруг залива Астролябии, был довольно густо заселен, и, так же, как и там, селения находились преимущественно в тех местах, где берег был песчаный, где же скалы (поднятые коралловые рифы) окаймляли берег на значительное расстояние, деревень не было, хотя в горах селений было немало.
Я старался отыскать отличительные черты в сравнении с моими соседями; но ни физический habitus, ни образ жизни не представляли большой разницы, только некоторые производства были специальны для некоторых деревень, и произведения служили для мены, которая составляла монополию жителей острова Били-Били и архипелага Довольных людей.
Почти в каждой деревне мне приходилось записывать отдельный диалект. На пути я везде разузнавал, между прочим, умеют ли туземцы добывать огонь, но везде слышал один ответ, что никакой способ получать его им не известен.[80] Как и следовало ожидать, «очень, очень дальние» расстояния, по словам моих друзей с острова Били-Били, оказались весьма недальними, так что, проведя четыре ночи в море и сделав миль 50 или немного более, считая от мыса Тевалиб (мыса Риньи), мы были у предела, за который морское странствие жителей Били-Били в настоящее время не простирается, и никакие обещания не смогли убедить моих спутников отправиться со мною далее.
Море, жители по берегу – все было им одинаково страшно. Мне пришлось удовлетвориться, видя, что я не в состоянии победить в них страха.[81]
Значительное селение, которое оказалось последним из посещенных во время этой экскурсии, называется Телят, и я надеюсь при помощи моих заметок определить эту местность, как и положение других береговых деревень (Биби, Бай, Кунила, Миндир, Авой, Дайны, Мегу, Об, Дамтуг, Сингор, Аврай) на карте, сделанной офицерами парохода «Базилиск» в 1874 г.[82]
К моей большой досаде, погода в продолжение двух дней, проведенных в деревне Телят, была туманная, почему нельзя было разглядеть островов Куруа, Бунанга, Кую,[83] которые, по словам туземцев, бывают видны отсюда в светлую погоду и по которым я легко бы мог определиться. Местность эта, однако же, весьма характеристична вследствие положения на выдающемся мысе, от которого идет гряда скал, издали видимых даже при высокой воде.[84]
Так как отправиться далее люди Били-Били никак не решались и уговор, заключенный с ними, – посетить вышеназванные деревни до деревни Телят, – был ими выполнен, приходилось вернуться. На возвратном пути, оставив пироги и людей Били-Били, не дойдя до мыса Тевалиб (Риньи), я отправился в горы познакомиться с горными жителями этой местности, которую называли «Хогему Рай» (деревни Рай).
Берег оказался пустынным, жители ближайшей деревни Биби были все в горах: «унан барата – буль уяр» (жечь «унан», есть свиней);[85] люди Били-Били трусили горных жителей и как приморцы полагали, что карабкаться по горам не их дело. Я знал положение деревень только весьма приблизительно (с пироги в море я мог с помощью бинокля различить лишь группы кокосовых пальм в горах), но все-таки отправился в сопровождении моего слуги-яванца.
Мне удалось посетить три деревни и в этот же день взобраться на гору, которая своим положением давно меня манила. Несмотря на то, что мы не могли понимать друг друга (не было переводчика), горные жители Рай приняли меня как нельзя лучше; они по слухам знали мое имя и, увидев белого, догадались, кто пришел к ним.
Я знаками объяснил, что хочу идти на высокий холм, который открывался за их деревнею и который они называют Сируй-Мана (гора Сируй). Проводники нашлись, и мы отправились немедленно. С вершины ее (около 1200 футов) мне представилась красивая панорама берега Маклая[86] на значительном протяжении.
Ночь я провел в деревне Рай; на другое утро, рано, был на месте, где оставил пироги, и благодаря порядочному попутному ветру к вечеру вернулся в Бугарлом. Мне так понравился этот способ путешествия, что я готовился к экспедиции на остров Кар-Кар[87] вместе с жителями острова Сегу.

Спокойствие жизни среди обширного поля многосторонних исследований составляло особенно привлекательную сторону моей новогвинейской жизни. Спокойствие это, благотворно действующее на характер, неоценимо, так как деятельность мозга, не развлекаясь различными мелочами, может быть сосредоточена на немногих избранных задачах. Дни здесь казались мне слишком короткими, так как мне почти что никогда не удавалось окончить к вечеру все то, что я утром предполагал сделать в продолжение дня.[88]
Не забывая назойливую истину «einen jeden Abend sind wir um einen Tag ?rmer», приходится нередко отгонять невеселые думы о мизерных свойствах человеческого мозга, о необходимости собирания материалов по песчинкам, иногда даже сомнительной доброты и т. п.
По временам, однако же, моя трудовая отшельническая жизнь прерывается на несколько часов, иногда даже на несколько дней неожиданными случайностями. Об одной такой случайности, представившейся недавно, расскажу для примера.
Я заметил выше, что воздерживался от вмешательства в политическую и социальную жизнь моих соседей и старался единственно лишь о предупреждении войн между туземцами.
Одна из многих причин междоусобий основана на поверии, что смерть, даже случайная, происходит через посредство так называемого «онима»[89], приготовленного врагами умершего, – врагами семьи его или врагами деревни, в которой он жил.[90] При смерти туземца (иногда даже заблаговременно перед кончиною опасно больного) родственники и друзья его собираются и обсуждают, в какой деревне и кем был приготовлен «оним», который причинил смерть умершему или болезнь умирающему.
Толкуют долго, перебирая всех недругов покойного, не забывая при этом и своих личных неприятностей. Наконец, деревня, где живет недруг, открыта, виновник смерти или болезни (чаще, несколько таковых) найден. Открытие мигом переходит из уст в уста, причем часто прибавляются обвинительные пункты и иногда увеличивается реестр виновников. После этих прелиминарий составляется план похода, подыскиваются союзники и т. д.
В Бонгу при смерти жены одного из тамо-боро (общее название главы семейства) я услышал совещание о походе на одну из соседних деревень; на этот раз, когда дело касалось смерти бездетной старухи (дети ее умерли малолетними), мне без особенного многословия удалось уговорить туземцев воздержаться от войны. Несколько месяцев спустя, при возвращении с моей экскурсии в деревню Телят, которую я описал в кратких словах выше, я застал ближайшие деревни Бонгу и Горенду в сильной тревоге: Вангум, туземец лет 25, крепкий и здоровый, после 2– или 3-дневного нездоровья внезапно умер.
Отец, дядя и родственники покойного, которых было случайно немало в обеих деревнях, усиленно уговаривали все мужское население этих деревень отправиться безотлагательно в поход на жителей одной из горных деревень (чаще других обвиняемых в колдовстве). С большим трудом и после очень серьезных переговоров мне и на этот раз удалось устранить набег на горцев. Обстоятельство, что жители Бонгу и Горенду не были одного мнения насчет деревни, где жил предполагаемый недруг Вангума или его отца, значительно помогло моему успеху.
Это различие мнения они, однако же, думали парализовать простым способом: напасть сперва на одну, затем на другую деревню. Я отклонил их от этих замыслов. Несколько дней спустя я узнал, что брат умершего Вангума, мальчик лет 9 или 10, отправившись с отцом и несколькими жителями Горенду на рыбную ловлю к реке Габенеу, был ужален небольшой змеею; яд подействовал так сильно, что перепуганный отец, схвативший ребенка на руки и почти бегом бросившийся в обратный путь, принес его в деревню мертвым.
Эта вторая смерть в той же деревне и в той же семье, последовавшая в промежуток нескольких дней, произвела настоящий пароксизм горя, жажды мести и страха между жителями обеих деревень… Даже самые умеренные стали с жаром утверждать, что жители Теньгум-Мана приготовили «оним», почему Вангум и Налай [Туй. – Ред.] умерли, и что если этому не положить конец немедленным походом, то все жители Горенду перемрут и т. п. Война казалась неизбежною. Об ней толковали старики, дети и бабы; молодежь готовила и приводила в порядок оружие.
Войны здесь хотя и не отличаются кровопролитием (убитых бывает немного), но бывают очень продолжительны, исходя часто или переходя в форму частных вендетт, которые поддерживают постоянное брожение между общинами и очень затягивают заключение мира или перемирия. Во время войны все сообщения между многими[91] деревнями прекращаются, преобладающая мысль каждого: желание убить или страх быть убитым.
Я не мог смотреть сложа руки на такое положение дел в деревне Бонгу, которая находилась минутах в пяти ходьбы от моего дома в Бугарломе. Притом молчание с моей стороны при моей постоянной оппозиции войнам, когда только несколько дней тому назад я восстал против похода при смерти старшего брата, было бы странным, нелогичным поступком; уступив в этот раз, я мог бы потерять мое влияние при всех последующих подобных случаях.
Я должен был устранить мою антипатию вмешиваться в чужие дела. Я решил запретить войну. На сильный эффект следует действовать более сильным эффектом, а главное, следовало разъединить их единодушную жажду мести, следовало поселить между ними разногласие и тем способствовать охлаждению первого возбуждения.
Будучи достаточно знаком с процессом мышления и склонностями туземцев, я обдумал план, который, по моему мнению, должен был произвести желаемое действие и который, как на деле оказалось, подействовал сильнее, чем я ожидал.
Придя в обычный час (перед заходом солнца) в Бонгу на другой день после происходивших при мне рассуждений о случившемся накануне и заметя, что туземцы интересуются узнать мой взгляд на положение их дел, я сказал, что хотя очень жаль отца, который потерял двух сыновей, молодых и здоровых, но что войны все-таки не должно быть и что все, что я сказал при смерти Вангума, остается верным и теперь.
Весть, что Маклай говорит «войны не должно быть», когда все готовы предпринять ее, облетела мигом всю деревню. Набралась значительная толпа и почти все старики обступили «барлу»[92], в которой я находился; каждый старался убедить меня, что война положительно необходима.

Доказывать неосновательность их теории «онима», вступать в теоретические рассуждения о нем было бы с моей стороны не только потерею времени, но и большим промахом.
Я выслушал, однако же, очень многих; когда последний кончил, вставая и собираясь идти, я повторил тем же обыкновенным голосом, который представлял сильный контраст с возбужденною речью папуасов и которому я постарался придать тон убеждения: «Войны не должно быть; если вы отправитесь в поход в горы, с вами со всеми, людьми Горенду и Бонгу, случится несчастие».
Наступило торжественное молчание, затем посыпались вопросы: что случится? что будет? что Маклай сделает? и т. п.
Оставляя моих собеседников в недоразумении и предоставляя их воображению найти перевод моей угрозы на свой лад, я ответил кратко: «Сами увидите, если пойдете».
Направляясь домой, проходя медленно между группами туземцев, я мог расслышать, что их воображение уже работает, каждый старался угадать беду, которую я пророчил.
Не успел я дойти до ворот моей усадьбы, как один из стариков нагнал меня и, запыхавшись от ходьбы, торопливо проговорил: «Если тамо Бонгу (люди Бонгу) отправятся в горы, не случится ли тангрин (землетрясение)?»
Этот странный вопрос и запыхавшийся старик показали мне, что мои слова в Бонгу произвели значительный эффект.
«Маклай этого не говорил», – возразил я. «Нет, но Маклай сказал, что тогда случится большая беда; а тангрин – большая, большая беда. Все люди Бонгу, Горенду, Гумбу, Богатим, все, все, боятся тангрин. А что, случится тангрин?» – спросил он опять упрашивающим тоном. «Может быть», – был мой ответ.
Мой приятель быстро пустился в обратный путь, проговорив скороговоркою, обращаясь к двум туземцам, которые подходили к нам: «Я ведь говорил: тангрин будет, если пойдем. Я говорил».
Все трое почти бегом направились в деревню.
Следующие дни я не ходил в Бонгу, предоставляя воображению туземцев разгадывать загадку и полагаясь на пословицу «У страха глаза велики». Я был уверен теперь, что они сильно призадумаются, и военный пыл мало-помалу начнет охладевать, а главное, что теперь в деревнях господствует разноголосица. Я не спрашивал, что мои соседи решили; они также молчали, а к войне далее не приготовлялись.
Недели через две пришел ко мне Туй, житель Горенду, самый старый мой приятель,[93] с неожиданною новостью: что он и все жители Горенду решили покинуть свою деревню, решили выселиться.
– Что так? – спросил я, удивленный.
– Да все мы боимся жить там. Останемся в Горенду, все перемрем один за другим. Двое уже умерли от оним мана-тамо[94], так и другие умрут. Не только люди Горенду умирают от оним мана-тамо, но и кокосовые пальмы больны, листья у всех стали красные, и они все умрут. Мана-тамо зарыли в Горенду оним – вот и кокосовые пальмы умирают.[95]
Хотели мы побить этих мана-тамо, да нельзя, Маклай не хочет, говорит, случится беда. Люди Бонгу трусят, боятся тангрин. Случится тангрин, все деревни вокруг скажут: люди Бонгу виноваты, Маклай говорил, будет беда, если Бонгу пойдут в горы… все деревни пойдут войною на Бонгу, если тангрин будет. Так люди Бонгу боятся.
Мы и решили разойтись в разные стороны, – добавил Туй все более и более унылым голосом и стал пересчитывать деревни, куда каждый из жителей Горенду думает переселиться.[96] Так как это переселение начнется через несколько месяцев, после сбора посаженного уже таро, то не знаю, чем это кончится.[97]
Я рассказал немного подробнее этот эпизод из моей новогвинейской жизни потому, что он кажется мне довольно характеризующим мои отношения к туземцам; но для полного понимания предыдущего я полагаю не лишним напомнить о том обстоятельстве, которое так помогло мне уже при первом пребывании на берегу Маклая[98] и которое представляет повторение уже несколько раз случившегося с европейцами при первых посещениях ими островов Тихого океана.[99]
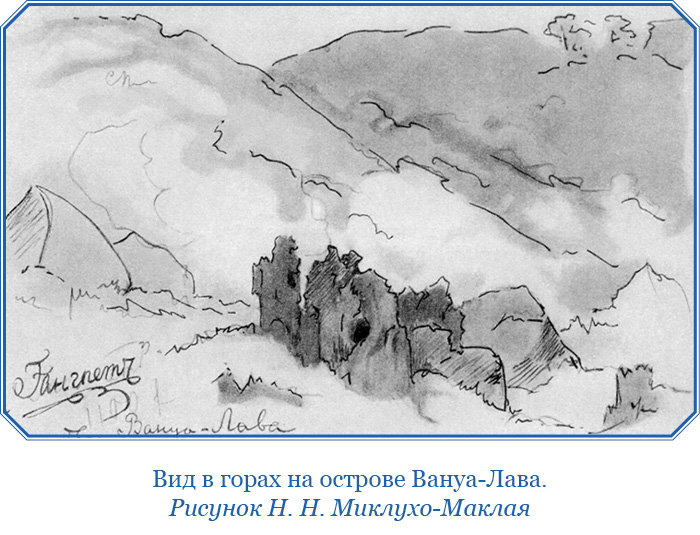
Раз возведя меня в положение каарам-тамо (человека с луны), придав мне это неземное происхождение, каждый поступок мой, каждое мое слово, рассматриваемые в этом свете, казалось, убеждали в них это мнение. С моей стороны, мне не приходилось и не приходится лгать (напротив, правдивость до последних мелочей – качество каарам-тамо), ни играть роли или быть чем-либо особенным, так что вся моя сверхъестественность обусловливается лишь в воображении папуасов.[100]
Имей я белых слуг или живи я в близости других белых, туземцы скоро убедились бы в земном происхождении каарам-тамо, но мой образ жизни и мои привычки не смогли изменить установившегося между папуасами мнения об особенности моего существа.
Я не считаю нужным разубеждать их[101] потому, во-первых, что я обращаю мало внимания здесь, как и в других частях света, на «qu’en dira-t-on», во-вторых, потому, что моя репутация и обстановка, с нею сопряженная, представляют ту громадную выгоду, что избавляют меня от необходимости быть всегда вооруженным и иметь в доме наготове заряженные ружья, разрывные пули, динамит и подобные им аксессуары цивилизации.
Проходит уже третий год, и ни один папуас не перешагнул еще порога моего дома ни на Гарагаси, ни в Бугарломе: незначительный негативный жест каарам-тамо достаточен, чтобы держать, если хочу, туземцев в почтительном отдалении. Пристальный взгляд каарам-тамо, по мнению папуасов, достаточен, чтобы наносить вред здоровым[102] и исцелять больных. Мне не приходится носить при себе воинственную амуницию и в незнакомых деревнях быть постоянно «au qui vive?» и т. д.
Эта репутация дает мне иногда возможность видеть и узнавать многое, что, вероятно, осталось бы для меня тайною, если бы в идеях туземцев я был не каарам-тамо, а простой белый человек. Она приносит также и туземцам ту несомненную пользу, что благодаря ей я был в состоянии не допустить несколько раз междоусобные войны, чем избавил туземцев от всех соединенных с ними бедствий.
Признаюсь, однако, что если бы потребовалось для сохранения этой репутации не единственно пассивное молчание, но иногда и уклончивые ответы, я вряд ли воспользовался бы долго ее покровом; и в таком случае мне, конечно, не удалось бы прожить так мирно и спокойно, как я живу вот уже около 3 лет между туземцами.
Сообщив в общих чертах о моих работах, о направлениях моих экскурсий и о способах для этих путешествий, рассказав некоторые эпизоды, прерывавшие иногда мою спокойную жизнь, и познакомив, наконец, читателя с причинами, которые помогают мне без особенных хлопот уживаться с папуасами, перейду к обратной, теневой, стороне медали.
Сюда относится, во-первых, нездоровье мое и моих людей, которые чаще были больны, чем я. Кроме моей старой знакомой – лихорадки (Febris remittens) с ее непредвиденными и неправильными пароксизмами, которые являются иногда в форме сильных невралгий (neuralg. ram. I et Nervi Trigemini), род хронического Dermatitis[103], особенно ног, заставляет меня проводить целые дни, иногда даже недели (!) дома, и, как назло, это нездоровье было причиною, что мне пришлось упустить случай (пока еще не возвратившийся) предпринять экскурсию, которая помогла бы мне дополнить мои наблюдения над обычаями туземцев.
Другая неприятность состояла в недостатке европейской провизии и многих весьма важных мелочей (между прочим, бумаги, чернил, стальных перьев, носков и т. п.), запас которых или истощился, или которые были забыты и утрачены при переезде моем сюда из Батавии.
Главною причиною этой неприятности было почти годовое запоздание прихода ожидаемого судна. Об этом несколько слов.
Я упустил из вида, что с членом коммерческого сословия условия и поручения должны сопровождаться положительными доказательствами, что при выполнении их он не будет в убытке; я не догадался подкрепить мою просьбу о присылке судна за мною[104] в ноябре или декабре 1876 года некоторою суммою наличных денег, векселем или тому подобным ручательством. Моя непрактичность была наказана: я остаюсь вот уже 20 месяцев[105] без писем и принужден изловчаться прожить с запасом провизии на 5 или 6 месяцев[106].
Вся вина лежит, разумеется, на мне самом: я не могу винить человека, с которым был знаком всего несколько недель, в том, что он не оказал мне более доверия и не пожелал рисковать суммою, которая могла бы возрасти до значительного размера при большой ценности найма судна (500 долларов в месяц), в зависимости от продолжительности плавания в местностях, подверженных неправильным ветрам (полоса штилей и переменных ветров близ экватора).[107]
При другом характере и других воззрениях на окружающее я мог бы отнестись к такому стечению обстоятельств и вследствие его весьма некомфортабельной жизни в продолжение многих месяцев как к значительному несчастию; но на опыте я убедился, что отношусь к этим аксессуарам жизни, которую сам избрал, с большим индифферентизмом и, замечая новое лишение или недостаток привычного удобства, могу повторять слова философа: «много есть, однако же, вещей, которых мне не нужно».

Если, замечая, что я ни слова не говорю о новооткрываемых видах райских птиц, не обещаюсь описать сотни и привезти тысячи новых редких насекомых, меня, может быть, удивляясь, спросит ревностный зоолог: отчего я ради вопросов по этнологии, которая, собственно, не составляет моей специальности, отстранил от себя собирание коллекций, я отвечу на это, что хотя и считаю вопросы зоогеографии этой местности весьма интересными, особенно после весьма подвинувшегося в последние годы знакомства моего с фауною Малайского архипелага, все-таки почел за более важное обратить мое внимание, теряя при этом немало времени, на status praesens житья-бытья папуасов, полагая, что эти фазы жизни этой части человечества при некоторых новых условиях (которые могут явиться каждый день) весьма скоропреходящи.
Те же райские птицы и бабочки, даже и в далеком будущем, будут не менее восхищать зоолога, те же насекомые наполнять тысячами его коллекции, между тем как, почти наверное, при повторенных сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, подобно тому, как я искал сакай и семанг в лесах Малайского полуострова. Время, я уверен, докажет, что при выборе моей главной задачи я был прав.
Tempo ? galant’uomo
Миклухо-Маклай.
Написано в Бугарломе, на берегу Маклая в Новой Гвинее, в октябре 1877 г.
Переписано и дополнено некоторыми примечаниями во время якорной стоянки в лагуне Рифа Канделария, в июле 1879 г.[108]
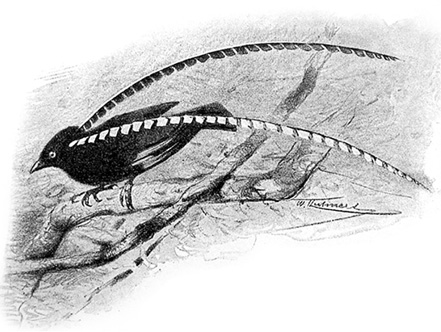
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Продвижение в Новой Гвинее и через Соломоновы острова
Продвижение в Новой Гвинее и через Соломоновы острова Во время боев на Гуадалканале американцы и австралийцы, действовавшие на Новой Гвинее, отбросили противника за горы и после ожесточенной борьбы овладели островами Буна и Гона у северного побережья этого большого
Глава 9 Во втором лагере
Глава 9 Во втором лагере Лишь только солнце скрылось за громадой Эвереста, в лагерь пришла настоящая зима. В палатках, где и повернуться-то сложно, альпинисты принялись надевать свою самую теплую одежду. Всего час назад здесь была почти летняя погода, а сейчас клиенты
ПЕРВОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ (с сентября 1871 г. по декабрь 1872 г.)
ПЕРВОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ (с сентября 1871 г. по декабрь 1872 г.) 20 сентябряОколо 10 часов утра показался, наконец[9], покрытый отчасти облаками высокий берег Новой Гвинеи.[10] Корвет «Витязь» шел параллельно берегу Новой Британии из порта Праслин (Новая
КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ О МОЕМ ПРЕБЫВАНИИ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ОСТРОВА НОВОЙ ГВИНЕИ (в 1871–1872 годы)
КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ О МОЕМ ПРЕБЫВАНИИ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ОСТРОВА НОВОЙ ГВИНЕИ (в 1871–1872 годы) 19 сентября 1871 года около 10 часов утра открылся высокий берег Новой Гвинеи близ мыса King William, и на другой день, в четвертом часу пополудни, корвет «Витязь» бросил якорь недалеко от
ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ (27/VI 1876 г. – 10/XI 1877 г.)
ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ (27/VI 1876 г. – 10/XI 1877 г.) 1876 г. ИюньПрибыл 27 июня на маленькой шхуне под английским флагом по имени «Sea Bird» («Морская птица»). Заметил значительное изменение вида высоких вершин гор. Туземцы были очень обрадованы, но нисколько не изумлены
НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ О ВТОРОМ ПРЕБЫВАНИИ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ В НОВОЙ ГВИНЕЕ в 1876–1877 гг. (из письма к (князю) А. А. М.)
НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ О ВТОРОМ ПРЕБЫВАНИИ НА БЕРЕГУ МАКЛАЯ В НОВОЙ ГВИНЕЕ в 1876–1877 гг. (из письма к (князю) А. А. М.) Так как остается еще несколько листов бумаги, то я могу доставить себе удовольствие писать Вам[109] и при этом дополнить мое письмо Географическому обществу,
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПАПУАСАХ БЕРЕГА МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ[132]
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПАПУАСАХ БЕРЕГА МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ[132] …Таким образом, является желательным, а, можно сказать, необходимым для науки изучить полнее обитателей Новой Гвинеи. К. Е. von Ваеr Ueber Papuas und Alfuren, стр. 71.Приведенное мнение Бэра совпадало и с моим
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПАПУАСАХ БЕРЕГА МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ[177]
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПАПУАСАХ БЕРЕГА МАКЛАЯ НА НОВОЙ ГВИНЕЕ[177] На мою долю выпало редкое счастье наблюдать такой народ, который все еще жил отрезанным от общения с другими народностями и притом на той стадии цивилизации, когда все орудия и оружие изготовляются из
Об употреблении напитка кеу папуасами в Новой Гвинее
Об употреблении напитка кеу папуасами в Новой Гвинее Некоторые обычаи туземцев Поли– и Микронезии представляют особенный этнологический интерес, своим распространением и сходством подтверждая тождество племен и отделяя их от жителей Меланезии, у которых эти обычаи не
Еще о некоторых этнологически важных обычаях папуасов берега Маклая на Новой Гвинее
Еще о некоторых этнологически важных обычаях папуасов берега Маклая на Новой Гвинее Кроме употребления кеу,[216] о котором я говорил в предыдущей заметке,[217] у папуасов берега Маклая я нашел еще некоторые обычаи, которые встречаются у жителей островов Полинезии, но которые
Неразрешимые противоречия новой Конституции и «новой общности»
Неразрешимые противоречия новой Конституции и «новой общности» Принятая в 1977 году Конституция СССР характеризовала построенное в СССР «развитое социалистическое общество» как общество, «в котором на основе сближения всех социальных слоев, юридического и фактического
В круге втором
В круге втором Если Ханна Арендт когда-то постулировала базовое сходство обоих тоталитарных режимов и если историки раз за разом подвергают это сомнению, то анекдот на своем двусмысленном языке это, однако ж, подтверждает. Молотов предложил Риббентропу иметь общее
НЛО над миссионерским поселением в Новой Гвинее
НЛО над миссионерским поселением в Новой Гвинее По свидетельству священника Уильяма М. Джилла, возглавлявшего в то время миссию англиканской церкви в поселении Боаинаи (Папуа, Новая Гвинея), события развивались следующим образом.27 июля 1959 года, вызванный встревоженным
ЦУНАМИ В ПАПУА—НОВОЙ ГВИНЕЕ
ЦУНАМИ В ПАПУА—НОВОЙ ГВИНЕЕ 17 июля 1998 г. 2 подземных толчка магнитудой 7,1 сотрясли северо-западное побережье Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр находился в 50 км от поселка Аитапе. Землетрясение привело к образованию в одной из наиболее отдаленных и изолированных частей
Часть 3 Трудная дорога к свободе - 1 (ноябрь 1991 - ноябрь 1992)
Часть 3 Трудная дорога к свободе - 1 (ноябрь 1991 - ноябрь 1992) 13 ноября. 18 ч. 32 м. Только признав суверенную Чеченскую республику, законно избранных парламент и президента, Россия может вступать с нами в равноправные переговоры, заявил сегодня на пресс-конференции в Грозном
Часть 4 Трудная дорога к свободе - 2 (ноябрь 1992 - ноябрь 1993).
Часть 4 Трудная дорога к свободе - 2 (ноябрь 1992 - ноябрь 1993). 21 ноября. 15 ч. 47 м. Большинство москвичей считают, что экономическая блокада Чечни неэффективна, нагнетание античеченских настроений в российском обществе аморально, а война была бы безумием с обеих сторон. Об этом,