А. Марченко В ГРОЗУ
А. Марченко
В ГРОЗУ
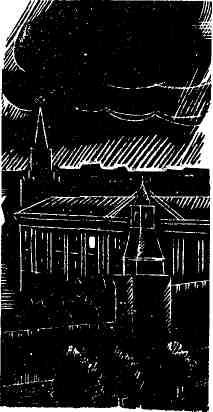
Гроза, бушевавшая над городом весь день и весь вечер, приутихла, отступила в подмосковные леса, напоминая о себе лишь дальним озлобленным громыханьем.
Дзержинский остался наедине со своими мыслями. Не каждая ночь была столь щедрой — большинство их было несоизмеримо беспокойнее дней, — но если выдавалась такая, как эта, Дзержинский заставлял ее работать на себя.
Он открыл боковой ящик стола и извлек оттуда стопку газет. Почти в каждой газете была статья или речь Ленина.
Среди них была статья, которую Феликс Эдмундович перечитывал не один раз. И не только потому, что она говорила о самом насущном и животрепещущем — о главных задачах текущего момента, но и потому, что была предельно созвучна с настроением его души, вызывала жажду действия.
Дзержинский знал, что Владимир Ильич писал эту статью в поезде, в ночь на 11 марта, когда правительство переезжало из Петрограда в Москву.
Дзержинский представил себе и эту ночь, и этот поезд, и глухие леса по обе стороны полотна, спящие в морозном дыхании снегов, и подслеповатые огоньки на редких станциях, и часовых в тамбурах, и маленькое купе, в котором бодрствовал Ильич.
Там, где в звенящей мгле мчался поезд, и дальше — на многие сотни и тысячи верст окрест — стояли безжизненно застывшие корпуса фабрик и заводов, чернела земля свежевырытых окопов, к которым стекались отряды красногвардейцев, мерзли в очередях голодные, измученные люди.
В окне, возле которого, примостившись у вагонного столика, писал Ильич, чудилось, мелькали лица людей — и злобные, и восторженные, и хмурые, и покаянные, и полные веры, и пышущие ненавистью.
А Ленин, ни на миг не отрываясь от рукописи, казалось, видел и эти лица, и лица тех, кто был в глубинах России, слышал их голоса, и это укрепляло в нем мудрую веру в силу народа.
Поезд стучал колесами на стыках, рвался вперед. Россия, еще не знавшая этих строк Ленина, уже пробуждалась, чтобы услышать их и ответить на них трудом и мужеством. Пробуждались и враги, чтобы снова броситься на штурм Республики. Пробуждались и те, кто в страхе и панике забился в скрытую от порыва ветра конуру, кто пытался отмахнуться от слишком горькой и страшной подчас действительности, кто укрылся под сенью красивой и звонкой фразы.
Пробуждалась Россия с верой в свой завтрашний день. И эту веру, как кремень искру, высекали в сердцах людей могучая воля и мысль Ленина…
Дзержинский с трудом оторвался от статьи. Он чувствовал себя обновленным, снова готовым без уныния и грусти стоять на боевом посту, еще более воодушевленный верой Ленина. «Да-да, — думал он, — это та самая вера, та самая… Песнь жизни. Нет, это не статья, это поэма, это торжествующий и победный гимн. Нужно иметь голову мудреца и душу поэта, чтобы так написать. Чтобы так вдохновлять…»
Дзержинский настолько ушел в мир страстей и тревог, в мир своих мечтаний и надежд, что не сразу расслышал телефонный звонок.
Он снял трубку и сразу же узнал голос Ленина:
— Феликс Эдмундович, здравствуйте.
— Добрый вечер, Владимир Ильич.
— Вечер? — рассмеялся Ленин. — А я-то по наивности своей думал, что уже ночь.
— В самом деле, — сказал Дзержинский, скосив глаза на часы.
— Вы совсем не бережете себя, Феликс Эдмундович! — воскликнул Ленин, но в его темпераментной интонации не чувствовалось гнева. — Или вы ждете специального решения? Вот погодите, я натравлю на вас Якова Михайловича, и уж тогда пощады не просите.
— Но ведь и вы, Владимир Ильич… — виновато начал Дзержинский.
— Ну, это уже бумеранг, — пытаясь говорить сердито, повысил голос Ленин.
— Мой дом здесь, — твердо произнес Дзержинский. — Лубянка, одиннадцать.
Ленин молчал.
— Кстати, — снова заговорил он, — какие вести из Швейцарии? Софья Сигизмундовна здорова?
— Здорова, спасибо, Владимир Ильич.
— И Ясик?
— И Ясик.
То, что Ленин, спросил о семье, растрогало Дзержинского. Он любил свою жену Зосю той светлой, мужественной и крепкой любовью профессионального революционера, когда чисто человеческое, природой данное чувство любви сливается с едиными взглядами на жизнь, с идеалами, которым поклоняются оба любящих. И особенно растрогало Дзержинского то, что Ленин не забыл о его сыне Ясике.
Дзержинский испытывал к Ясику трепетное чувство любви и не только потому, что Ясик родился в тюрьме и что он был единственным ребенком в семье, но главное потому, что Дзержинский вообще любил детей, видел в них тех, кто продолжит борьбу.
Сейчас, когда Ленин спросил о Ясике, Дзержинский почувствовал в его словах не просто дань традиционной, и общепринятой вежливости, а вопрос человека, который хотя и не имеет своих детей, глубоко понимает, как они дороги, и любит их так же, как будто бы это были его собственные дети. И это еще более усилило в Дзержинском то чувство глубокого и нерасторжимого родства с Лениным, которое всегда жило в его душе.
— А не приходила ли вам в голову мысль повидаться с семьей? — спросил вдруг Ленин, и Дзержинский не сразу понял, говорит ли он серьезно или просто шутит. — Что же вы молчите?
— Теперь? — спросил Дзержинский. — Это невозможно.
— Это вы себя так настроили, хотя и понимаете, что ничего невозможного нет. Конечно, не сейчас, не вдруг, но в нынешнем году вам надо бы съездить.
— Хорошо, Владимир Ильич, но я поеду лишь тогда, когда будет хоть какой-то просвет.
— Хитрец! — засмеялся Ленин. — Прекрасно понимает, что просвета не будет. Вы заметили, Феликс Эдмундович, какая сегодня гроза над Москвой?
— Да, Владимир Ильич, давно не видел такой грозы.
— И, представьте, глядя на это небесное столпотворение, я даже замечтался о том времени, когда люди смогут обуздать эту дикую энергию и бога разрушения заставят быть богом созидания. Поймать молнию, как это дьявольски заманчиво, Феликс Эдмундович! Заставить ее работать, а не куролесить в небе.
— Признаться, я думал о другом, — сказал Дзержинский. — Эти молнии, как стрелы врагов.
— Узнаю пролетарского якобинца, — с улыбкой произнес Ленин. — Кстати, о стрелах врагов я тоже подумывал. Разговор с вами у меня, как вы помните, намечен на послезавтра. А вот гроза надоумила — решил позвонить. Не ошибся?
— Нет, Владимир Ильич. Обстановка такая, что не до сна.
— А знаете, я тоже с вами пооткровенничаю: и мне не спится. И коль уж такое совпадение, и коль мы с вами такие ненормальные люди, приезжайте-ка прямо сейчас, а?
— Хорошо, — обрадованно сказал Дзержинский, — выезжаю немедленно.
— Впрочем, гляньте-ка в окно. Видите?
— Вижу, — ответил Дзержинский. — Гроза возвращается.
— И не ослабла, напротив, кажется, стала еще злей.
— Владимир Ильич, а помните: «Будет буря, мы поспорим…» Это же ваше любимое…
— Э, батенька, вы снова бьете меня моим же оружием? Тогда сдаюсь. Жду.
Дзержинский повесил трубку, бережно сложил газеты, убрал их на прежнее место и вызвал машину.
Спустя пять минут автомобиль с выключенными фарами вырвался к Лубянской площади. Молнии озаряли мчавшуюся по безлюдным улицам машину.
Автомобиль миновал Манеж и остановился у Троицких ворот. Дождь ручьями стекал с высокой стены.
— Кто едет? — спросил часовой в мокром капюшоне, плотно надвинутом на голову.
— Дзержинский, — сказал Феликс Эдмундович, протягивая пропуск.
Часовой взял под козырек. Машина въехала в Кремль.
Казалось, все молнии, что теперь беспрестанно, будто одна от другой, рождались в небе, облюбовали себе мишенью кремлевский холм. Земля вздрагивала от раскатов грома.
Дзержинский вышел из машины и, не закрываясь рукой от ливня, остановился, взглянул на окна третьего этажа того здания, в котором размещался Совнарком.
В одном окне горел свет. И оно, это окно, так отчетливо, смело и ясно смотрело в мир, что даже огненное пекло молний не могло совладать с этим светом.
Поднимаясь наверх, в кабинет Ленина, Дзержинский дважды останавливался на неширокой лестнице с крутыми ступенями: не потому, что утомился (выносливости ему было не занимать), а потому, что его мучил кашель. В горле предательски першило, в легких, вдохнувших на улице сырой воздух, покалывало, и Дзержинский, останавливаясь, старался откашляться. Он знал, что если будет кашлять во время встречи с Ильичей, Ильич неизбежно потребует, чтобы он, Дзержинский, немедленно занялся лечением. Дзержинский же вовсе не хотел к тем многочисленным заботам, которые лежали на плечах Ленина, добавить еще и заботу о своем здоровье, И потому он плотно зажимал рот, чтобы звуки сухого, стреляющего кашля не донеслись до кабинета, в котором его ждал Ленин.
Так он и вошел в кабинет — с крепко стиснутыми губами, распрямив слегка сгорбленную спину, подтянутый и бодрый, всем своим видом показывая, что он совершенно здоров.
Владимир Ильич встал из-за стола и стремительно сделал навстречу Дзержинскому те несколько шагов, которые позволял сделать его небольшой кабинет. Чуть раскосые, с веселым оптимистичным прищуром глаза Ленина осветились радостью и доверием, а ударившая в окна вспышка подчеркнула именно такое выражение его взгляда. И это так светло отозвалось в сердце Дзержинского, что он улыбнулся. Это была, пожалуй, первая улыбка на его лице за целые сутки.
— Без плаща… Да вы промокли, — укоризненно, с теми интонациями, которые обычно бывают свойственны отцу в разговоре с сыном, сказал Ленин, притронувшись ладонью к гимнастерке Дзержинского.
— Не беда, — отозвался Дзержинский, крепко пожимая руку Ленину, но его слова тут же заглушил трескучий, как взрыв снаряда, гром.
Ленин переждал, пока многоголосое эхо грома откатится от окон и стихнет. Он не сводил испытующих глаз с Дзержинского, словно желая уличить его в безвинной ребячьей хитрости.
— Не приняли ли вы май за июль, уважаемый, грозный и ничегошеньки о себе не думающий председатель? Вот, извольте взглянуть на календарь. — И, видя, что Дзержинский собирается что-то сказать в свое оправдание, быстро, с оттенком непререкаемости добавил: — Простуда вам, дорогой Феликс Эдмундович, абсолютнейше противопоказана.
— Владимир Ильич, — взмолился Дзержинский, — сколько разговоров о моем здоровье, честное слово, есть дела поважнее!
— А кашель там, на лестнице? У меня хороший слух, милейший Феликс Эдмундович. И да будет вам известно… Нет, нет, извольте выслушать до конца, — не давая себя перебивать, стремительно заговорил он, — да будет вам известно, раз и навсегда, что ваше здоровье — это не только ваша личная собственность, — это прежде всего собственность партии.
— Согласен, Владимир Ильич, но ради бога не беспокойтесь, я чувствую себя великолепно, — сказал Дзержинский, усаживаясь в кресло.
Ленин сел вслед за Дзержинским, но не на тот стул, на котором обычно сидел, а в кресло у приставного столика. Он оперся щекой о ладонь и, пристально глядя на нахмуренного, сосредоточенного Дзержинского, неожиданно забросал его веселыми вопросами.
— Что, не по нраву мои нотации? Жалеете уже, что напросились на встречу?
Дзержинский, понимая, что Ленин говорит все это с легкой иронией, адресованной самому себе, ответил кивком: мол, согласен с такими предположениями, ибо они не более чем шутка.
Ленин посмотрел в окно. Молнии с прежним неистовством устремились к спящей еще земле.
— Как все это символично, — задумчиво сказал Ленин, оборачиваясь к Дзержинскому. — И знаете, такие совпадения бывают разве только в театре, но что поделаешь: история тоже любит разыгрывать и свои драмы, и свои комедии. Представьте, нынешняя гроза, невероятно упорная и затяжная, совпала с грозой, да, да, в самом буквальном смысле, с грозой в атмосфере нашей общественно-политической жизни.
Ленин приблизился к большой карге, висевшей на стене. Подошел и Дзержинский.
— За последнее время, Феликс Эдмундович, политическая атмосфера тоже сгустилась. Высадка японцев, мятеж чехословаков. Не сегодня-завтра можно ожидать, что англо-французы потребуют: либо воюйте с Германией, либо…
— Они очень любят всевозможные ультиматумы, — сказал Дзержинский. — И вряд ли нам стоит реагировать на подобные угрозы.
— Но учитывать надо, — сказал Ленин. — Конечно, если ультиматум такого рода они все же предъявят, мы ответим отказом, ибо легче справиться с японским продвижением на Дальнем Востоке, чем с нашествием германцев на Питер, Москву и на большую часть Европейской России.
— Значит, во внешней политике по-прежнему следует придерживаться осторожного курса?
— Да, — твердо и убежденно ответил Ленин, — общим лозунгом внешней политики остается: лавировать, выжидать, продолжая изо всех сил нашу военную подготовку. Да, я заранее предвижу, — все более горячась, вновь заговорил Ленин, будто обращался к невидимым противникам, — я заранее предвижу, какие вопли, какие потоки гнусной клеветы обрушатся на нас за то, что мы идем своим, единственно верным путем. Левые эсеры по-прежнему вопят: «К оружию!», требуя воевать с немцами. Они вкупе с левыми коммунистами готовы идти на утрату Советской власти ради своей авантюры. Но их крики — верх тупоумия и самой жалкой, презренной псевдореволюционной фразы.
Ленин продолжал характеризовать обстановку, а Дзержинский мысленно как бы переплавлял каждое ленинское слово в те практические действия, которые предстояло осуществить чекистам не только в ближайшем будущем, но и сегодня, немедленно, тотчас же после беседы с Ильичей. Сложной, добела накаленной обстановкой незамедлительно воспользуется контрреволюционная свора.
Дзержинский с острым чувством тревоги подумал о том, что сейчас, когда фронт борьбы стремительно расширяется, особенно даст о себе знать нехватка работников в ВЧК. Людей буквально наперечет, они сутками не смыкают глаз, выполняя опаснейшие задания. Люди, конечно, замечательные. Вот хотя бы Ян Вуйкис… Задумчивый, немногословный латыш, человек с завидной волей, который два часа назад докладывал о ходе выполнения оперативного задания…
— А здесь, — продолжал Ленин, обводя на карте границу Германии, — здесь все больше распоясывается и берет верх военная партия. Она привыкла делать ставку на силу меча. И кто, скажите, кто может гарантировать, что завтра немцы не пойдут в общее наступление на Россию? Мы по-прежнему на волосок от войны.
— Немцы, — сказал Дзержинский, — душат Польшу, топчут своими сапогами Украину. Германские штыки ободрили тамошнюю контрреволюцию.
— Вот видите, — Ленин теперь уже смотрел не на карту, а в лицо Дзержинскому, — сколько у вас прибавилось забот, дорогой Феликс Эдмундович.
— Удел солдат, стоящих на посту, — пожал плечами Дзержинский. — Разве до отдыха, Владимир Ильич, когда нужно спасать наш дом?
— Плюс ко всему — продовольственная разруха, — добавил Ленин. — У меня была делегация питерских рабочих. Они куют оружие для Красной Армии, делая это в адски трудных условиях. Я сказал им, Феликс Эдмундович, что правительство готовит декреты о борьбе с голодом, и вручил им копии этих декретов. Я надеюсь, что и ВЧК докажет свое умение громить спекулянтов, мародеров и всех, кто пытается задушить Республику костлявой рукой голода.
— ВЧК сделает все возможное, — сказал Дзержинский. — И не посмотрит на тех, кто на каждом перекрестке вопит о нашей беспощадности. Особенно стараются левые эсеры…
— Знаете, Феликс Эдмундович, — как бы продолжил его мысль Ленин, — я как-то вообразил, что если бы составить кривую, показывающую месяц за месяцем, на чью сторону становилась партия левых эсеров начиная с февраля семнадцатого — на сторону пролетариата или на сторону буржуазии, если бы эту кривую провести за год, то что бы, вы думаете, получилось?
— Вероятно, нечто весьма неприглядное.
— Больше того, получилась бы кривая, отображающая состояние человека, которого постоянно лихорадит!
— Воистину, — добавил Дзержинский, — такие постоянные и непрерывные колебания, как эта партия, едва ли какая-либо другая в истории революции проделывала. Хотя немало левых эсеров хорошо показали себя в революции, проявляли инициативу, энергию.
— Да, но в целом картина незавидная. И поверьте мне, Феликс Эдмундович, что левые эсеры еще преподнесут нам нечто такое…
Дзержинский промолчал. Он сразу же подумал о том, что и у него, в аппарате ВЧК, работает немало левых эсеров. И с этим приходилось мириться. Правда, члены коллегии Лацис и Петерс несколько раз приходили к нему, Дзержинскому, и с возмущением говорили, что с левыми эсерами просто нет никакой возможности работать: они постоянно подрывают единство при разрешении сложных вопросов и часто возражают против крутых мер, применяемых к явным контрреволюционерам. Дошло до того, что Петерс и Лацис поставили вопрос ребром: или мы, или эсеры. Пришлось говорить с Яковом Михайловичем Свердловым. Яков Михайлович посоветовал тогда подождать до съезда Советов: «Если левые эсеры останутся в правительстве — придется оставить их и в ВЧК, если уйдут — прогоним их и из ВЧК…» На том и порешили…
— А наша власть, вы согласны, Феликс Эдмундович, непомерно мягкая, сплошь и рядом больше походит на кисель, чем на железо.
— Абсолютно верно, — подтвердил Дзержинский. — Это на руку контрреволюции. Возьмите того же Савинкова. Он побывал на Дону, у Алексеева… Мы же прекрасно знаем Савинкова — герой авантюры. Он непременно попытается стать организатором реакционных сил России.
— Очень верное предположение, — сказал Ленин. — Вы, правы, Савинков — враг опаснейший, по-своему талантливый. Очень важно его упредить. И тут никаких проволочек. Решительные, прямо-таки драконовские меры. И величайшая осторожность.
— Понятно, Владимир Ильич. Колебания с нашей стороны были бы просто преступны. Вспомните хотя бы разоружение анархистов. Сколько сомнений и опасений было по этому поводу у некоторых весьма ответственных московских товарищей. И сколько вреда успела из-за этого принести пресловутая черная гвардия.
— Ничего, мы пойдем своим путем, — твердо сказал Ленин. — Разве мы имеем право забывать хотя бы на минуту, что буржуазия и мелкобуржуазная стихия борется против Советской власти двояко: приемами Савинковых, Корниловых — заговорами и восстаниями, а с другой стороны — используя всякий элемент разложения, всякую слабость для подкупа, для усиления распущенности, хаоса.
— Да, это так, Владимир Ильич.
— И чем ближе мы будем подходить к полному военному подавлению буржуазии, тем опаснее будет становиться для нас стихия мелкобуржуазной анархичности.
— Я убежден, — сказал Дзержинский, — что Савинков как раз и старается использовать эту стихию. В мутной воде легче рыбку ловить.
— Кстати, Савинков не так глуп, чтобы действовать в одиночку, — заметил Ленин. — И если заговор уже зреет, то следы его неизбежно приведут к порогам известных нам посольств.
— Спасибо, Владимир Ильич, мы это учтем.
Дзержинский сделал пометки в блокноте.
— Итак, Феликс Эдмундович, против буржуазии, поднявшей голову, — борьба самая энергичная и непримиримая. Во имя защиты революции.
Ленин неожиданно привстал и с удивлением посмотрел в окно.
— Смотрите, да никак уже светает! — воскликнул он. — Ну и засиделись же мы!
— Ради такой беседы стоило пожертвовать ночью, — заметил Дзержинский.
— В самом деле? — прищурился Ленин. — А вообще-то мы тут с вами набросали целый очерк о текущем моменте.
— И о задачах ВЧК в этот момент, — добавил Дзержинский.
— Ну, вот и хорошо, — удовлетворенно сказал Ленин. — А теперь пора и по домам. Новый рабочий день начинается.
— Пожалуй, пора.
— Вам позавидуешь, — улыбаясь, сказал Ленин, — вы к себе, на Лубянку. И никакого тебе домашнего контроля. А мне, представьте, надо на цыпочках пройти, чтобы Надюшу не разбудить. Она, знаете, — Ленин сказал это неожиданно тепло и мягко, — часто прибаливает, и не хочется беспокоить ее лишний раз. — Ленин вдруг оживился: — А знаете, давайте-ка вдвоем, Феликс Эдмундович, кофейку отведаем. Преотличнейший кофеек — жареные желуди и немного ячменных зерен. Представляете — лесом пахнет и созревшим колосом. Не верите? Соглашайтесь, помолодеете от такого напитка.
— Спасибо, Владимир Ильич, но я уже и так запаздываю — у меня в шесть утра деловая встреча.
— Ну что с вами поделаешь, — огорченно сказал Ленин, — придется пить кофе одному.
Ленин проводил Дзержинского до двери и вдруг остановился. Дзержинский понял, что Ленин собирается сказать ему что-то очень важное и потому, хотя и держался за ручку двери, не открыл ее, а обернулся к Ильичу.
Лицо Ленина было усталым, более того, изможденным, но — поразительно! — глаза его излучали задор, смотрели с вызовом темпераментного, закаленного бойца.
И Дзержинский подумал, что хотя и прежде были такие моменты, когда ему доводилось видеть Ленина и усталым, и гневным, и даже грустным, — все равно, и сквозь усталость, и борясь с гневом, и преодолевая грусть, неудержимо и победно светилось во всем его облике, и особенно в глазах, радостное, счастливое, безбрежное ощущение жизни и борьбы. И это было естественным состоянием человека, ум и душа которого полны поистине беспредельной, ошеломляющей и всепокоряющей веры в правоту тех идеалов, которым он посвятил свою жизнь.
— Архитяжкое время, — сказал Ленин. — Мучительная, трудная, адская, изнурительнейшая работа… — Посмотрел Дзержинскому прямо в глаза и добавил: — И все же — это счастье, дорогой Феликс Эдмундович. Да, да, мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми. Мы строим новую жизнь. И знаете, нет сомнения, что, проходя через тяжелые испытания, революция все же вступает в полосу новых, незаметных, не бросающихся в глаза побед. Честное слово, не менее важных, чем блестящие победы эпохи октябрьских баррикад…
Ленин произнес все это негромко, доверительно, словно посвящая Дзержинского в самое сокровенное своей души. Воодушевленный словами Ленина, каждой клеточкой своего разума сознавая их гордое и прекрасное значение, Дзержинский проникновенно, тихо сказал:
— Если бы человечеству не светила звезда социализма, не стоило бы и жить…
Они с минуту постояли молча, пожимая руки друг другу. Стекла окон все еще позванивали от раскатов грома, стучал, не переставая, дождь, а они стояли в трепетном блеске молний, словно мысленно говоря сейчас все то, что не успели или не решились произнести вслух. Потом Ленин открыл дверь, негромко сказал:
— Сейчас, как никогда, Феликс Эдмундович, нужны щит и меч нашей ЧК. И прошу, очень прошу, — в голосе Ленина снова зазвучали отеческие нотки, — берегите себя, Феликс…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Анатолий МАРЧЕНКО ПОЛЧАСА ОТДЫХА
Анатолий МАРЧЕНКО ПОЛЧАСА ОТДЫХА Было уже близко к полуночи, когда молодой сотрудник ВЧК Делафар и его непосредственный начальник Калугин вышли на улицу. Горячий выдался денек, ничего не скажешь! Не такими уж простыми оказались эти анархисты. Было среди них немало и
А. Марченко СПРАВЕДЛИВОСТЬ
А. Марченко СПРАВЕДЛИВОСТЬ 1Дзержинский отложил в сторону папку, встал из-за стола и подошел к окну. Над Москвой тихо опускались сумерки, сливаясь с клубящимися над крышами домов дымками. Подслеповатые огоньки изредка вспыхивали в черных проемах окон. Полуголые деревья
Анатолий Марченко ЛУНА СМОТРИТ НА ЗЕМЛЮ
Анатолий Марченко ЛУНА СМОТРИТ НА ЗЕМЛЮ I Тоня спросила:— Ты не забыл фуражку?— А что? — насторожился Рыжухин.Цветаш запрещал брать на задание что-либо постороннее. Когда Вятликов прихватил было с собой пачку «Беломора», Цветаш, вдруг, копируя патрульного немца (артист
Анатолий Марченко ХАСАНСКИЕ ВЕТРЫ
Анатолий Марченко ХАСАНСКИЕ ВЕТРЫ Иван Пашенцев приехал на заставу летом. Моросили дожди. Сопка Заозерная мирно дремала в сизом тумане. В высоких густых камышах голосами молодых петухов «кукарекали» фазаны. Изредка с тяжелой одышкой зло фырчал дикий козел.Возвращаясь с
Анатолий Марченко ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
Анатолий Марченко ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН Стасик уходит в прошлое Друзья звали его Стасиком. За обаятельную мальчишескую улыбку. За то, что умел по-настоящему дружить и мечтать. И, вероятно, за то, что ходил в строю на самом левом фланге.Он очень любил свое училище. Но он ждал
Анатолий Марченко «КЛЮЧИ» НИКОЛАЯ АНИЧКИНА
Анатолий Марченко «КЛЮЧИ» НИКОЛАЯ АНИЧКИНА Председатель колхоза медленно шел по полю, горбя и без того сутулую спину. Солнце накалило стерню, и чудилось, что она вспыхнет горячим огнем.Председатель остановился возле колхозников, отдыхавших у скирды. Она отбрасывала на
Анатолий Марченко ВСТРЕЧА С ЖИЗНЬЮ
Анатолий Марченко ВСТРЕЧА С ЖИЗНЬЮ СТАСИК СТАНОВИТСЯ ЛЕЙТЕНАНТОМ Друзья звали его Стасиком. За то, что умел по-настоящему дружить и мечтать. За обаятельную мальчишескую улыбку. За то, вероятно, что ходил в строю на самом левом фланге.Он очень любил свое училище. И вовсе не
Первые ди-пи: Семен и Ольга Марченко
Первые ди-пи: Семен и Ольга Марченко Показания Ольги Марченко взволновали весь зал.В пестром платочке, с круглым лицом, певучим голосом она рассказала о том, как советская власть раскулачивала крестьян. Кулаками были признаны крестьяне, имевшие (как Марченко) одну корову