Николай Никонов БАЛЧУГ Повесть[46]

Я проснулся внезапно, испуганно. Так бывает в незнакомом месте. Сбросил отяжелелый брезент — холодом, запахом мокрой поляны окатило меня. Едва брезжило. Рассвет слезно растекался еще где-то за лесами, а здесь, на поляне, стояла редкая фиолетовая сутемь, и глазам было непривычно, будто я потерял большую долю зрения.
В лицо сыпался дождик. Он моросил как-то уверенно, безотрадно, липко засевал лицо, и я потянул брезент на плечи. «Вот еще! — сказал я себе. — Этого только и не хватало… Дождь…» И хотя я понимал, что это весенний дождик, что под ним благодатно отходит земля, растворяется последний снег, лезет жадная молодая травка, мне стало скучно и муторно. Я чувствовал, как тело дрогло, боролось с сыростью. Ломило суставы, побаливал зуб — оказалась ночь, проведенная на земле и дожде у потухшего костра. Представилось мне сухое тепло городской квартиры, кухня, где я любил пить чай раным-рано, когда за окном нет огней и улицы пусты. Зачем я здесь? В лесу. Один. Глупость — эта поездка, одно мальчишество, необдуманность, а тут еще погоды нет, и дождь, может, и снег будет. Припомнились снегопады, что заставали меня налегке в лесу, в горах. Вспомнил, как, почти замерзающий, выбирался однажды к станции, ел сырую картошку, сидя под елью, едва заставлял себя вставать и идти. Многое приходит на ум, когда ты в лесу и далеко от селений, на таком вот глухом, мокром рассвете.
— Переменная облачность… Переменная… — бормотал я, все не решаясь выбраться из-под брезента, выглядывал из-под него, будто курица с насеста.
Светлело. Стволы берез на краю поляны выступили. Обозначились дальние сосны, и прогалы меж ними стали бледно-сиреневыми. Пролетел последний запоздалый вальдшнеп. Конец ночи. И тотчас запел в елях дрозд-белобровик. Откликнулся другой и третий. И вот торжественное «ю-ю-ю-ю-и…» послышалось со всех сторон, согласно сливаясь с холодной и хмурой ранью.
Прозвенела, рассыпала серебро зорянка. Первый зяблик разбуженно кричал свое: «Пинь, пфинь» — и начинал петь, да все сбивался — знать, горлышко не прочистил. Заурчал, забормотал где-то токующий тетерев. Приятен был его бодрый голос. Тетерев бормотал по-апрельски задорно, торжествующе. Вдруг смолк. И тогда устоялась недолгая тишина, замолчали дрозды, как от пролетевшего ястреба, лишь стукали, слезились капли — лес плакал, везде слышались по нему легкие тихие шаги.
Я ночевал на поляне — ждал к рассвету глухариного тока. Редкими стали глухари, уходят от человечьих селений, и вот даже здесь — за двадцать километров от ближней станции — не слышно никого. Здесь было давнее богатое токовище. Я знал его давно, берег и думал: оно останется неведомым ни охотникам, ни браконьерам. Как странно все-таки и горько было… Никого. Тот же лес, поляны. И никого… Я собрал рюкзак, обошел место вокруг, все прислушивался — не донесется ли откуда-нибудь пощелкивание токующей птицы или ее хлопающий громкий взлет. Но ничего не услышал, только дождь шуршал, падали капли, да пели ранние птички.
Наверное, пора сказать, что я не охотник, а зоолог. Точнее — орнитолог. Моя диссертация и книги — по глухарям. Я люблю глухарей. Нет для меня интереснее этой древней загадочной и гордой птицы. Да если и вы хоть раз видели глухарей, вам навсегда запомнятся они, их дикий вид, стремительный, скользящий полет, когда несутся они, первобытно вытянув шеи, высоко над лесом, точно удивительные лесные гуси, запомнится их оперение, соединившее черную седину ельников с охрой сосновых боров. А кто слышал их песню — точенье, щелканье и шепот — сам голос леса, еще не понятый никем? Со станции Илим я добирался сюда полдня, шлепал залитыми водой проселками, скользкими лежневками, необтаявшими тропами. Такая неудача! Не повидать ни одного глухаря. Ведь я собирался жить здесь дня три, слушать, фотографировать, писать лесные голоса на маленький магнитофон, с трудом добытый на этот случай. «Может, из-за погоды не токуют?» Я надел рюкзак, подвигал плечами, прилаживая ремни поудобнее, стоял в раздумье.
Далеко впереди закричал филин. «У-у, у-у, у-у», — всполошно повторял он с кукушечьей весенней настойчивостью и совсем не страшно (только в романах о привидениях, в детских сказках ухают и хохочут филины в любое время года). Я подумал: «Вот весна, и филин поет… Дикая песня, да что поделаешь — таков голосок». Все совы немузыкальные существа. Жутко, будто человек, схваченный за горло, стонет весной серая неясыть, брошенным котенком мяукает ушастая сова, лает в сумерках маленький сыч — и так до начала лета, а там замолкнут совиные крики. Жди новой весны. Мало сов теперь, а филина и вовсе не сыщешь, знать, потому с особым удовольствием, понятным, наверное, лишь орнитологу, слушал я глухое «у-у», пока прикидывал, как быть. Искать ли другой ток? Возвращаться ли на станцию не солоно хлебавши… За двадцать-то верст?! А мой «Репортер», кассеты с незаснятой пленкой, зимние планы — в лес! в лес! — бродить, слушать, снимать на току… Мечты, как известно, всегда лучше действительности.
Был, правда, еще один ток далеко даже отсюда, в Бараньих островах. Путь туда представлялся смутно и трудно — я бывал там еще мальчиком, когда ходил на охоту вместе с отцом. Помнилось, обойдешь лесом долгое Щучье озеро, по гнилым зыбким жердям — есть ли они теперь в водополье, — переползешь Исток, реку с черной торфяной водой, и начнется лесистое Зюзево болото, где лежат возвышенные мещеры и релки, поместному острова и «мыса» Бараньи, Глухариные, Малиновые. Два десятка лет назад там были сплошные чащи, дремлющая глушь, ветровалы и гари. Были метельчатые травы, кочки, кукушник, полосы и площади, заросшие высоким, в рост, иван-чаем. Где-то в середине болота лежало неведомое Пронино озеро, на котором даже отец не бывал, а я с восторгом и страхом представлял это озеро, думал часто, кто такой тот Проня, чьим именем оно названо.
Мы пробирались узкими лосиными тропами, часто они пропадали, и некуда было идти — кругом один буреломный лес: то перестоялый и сквозивший с перекрестьями склонившихся деревьев, то темный и жуткий с завалами зеленого колодника.
Помнилось, как опасно тонули ноги во мхах, как в ветреные дни скрипели деревья, как робко билось мое сердце, стеснялось дыхание, когда я торопился за отцом, боясь отстать.
Мы добирались до Малиновых мысов лишь на второй день пути и долго отдыхали, варили еду, переобувались, налаживали ружья. Нетоптаные боры стояли здесь на отлогой возвышенности, кругом в шиповниках, в малине, в глухой живописи еловых венцов. В этих еловых венцах, таких темных, свежих и разных, было нечто донельзя лесное и тоже свежее, дикое, молчаливо приятное и загадочное. Березы на них серо и коричнево сквозили, ольшаник дымчато опускался в низины. И отовсюду из леса неслись голоса чечеток, пиньканье синиц и скрип клестов. Это был отдельный и чистый мир, простой, непонятный, тянущий к себе и отгороженный накрепко своей молчаливой углубленностью, безлюдной грустью. Помню большие холодно-зеленые и светлые осины. Они росли отдельными рощами там, где было сырее, и не знаю почему, но я хранил в памяти эти безлистые высокие осины с редкими зелеными прямыми сучьями — и даже влажное небо над ними и тот тайный вопрос — зачем они выросли тут, чего ждут и кому их красота, так несказанно просто созданная здесь, вдали от всех?..
Чтобы не стоять на месте, я пошел дальше, а потом решил, что так и надо.
«Разгуляется», — поглядывал я на небо. Весной часто так бывает: хмурится, куксится с утра, снежок даже летит, к полудню же, глядь, заголубело, и солнце выглянуло, и все начало теплеть, париться, улыбаться.
Этим я утешался, чтоб ноги не повернули назад.
По темному влажному слою листвы везде синели нахохленные медуницы. Ворсистые шейки их серебрились, голубые соцветия смежили венчики. Один брусничник блестел мокро и бодро, да зелено светились пробившиеся сквозь лист острые новые травинки.
«Жизнь, — словно не думал, а скорее просто ощущал я. Смотрел и видел. Слышал и понимал. — Новая весна. Новая трава. Свист рябчика. Воркованье лесного вяхиря. Стон. Желание. Надежда и упрек. Голос весны. Это оттуда — из еловой глубины. Из той нерукотворной вечности елей и берез, света и тишины. Жизнь… Слезы с веток. Шорох дождя и вздохи ветра. Синева насупленной медуницы, как воскресение из небытия, как детский задумчивый глаз. Сколько их было — зим и весен? Ранних весен, когда мокрый свет, мокрый мир и словно бы одно ожидание лучшего, а все-таки и дальше жизнь, через все мертвое и прошлое. Сгнивший лист… Раскрывающийся цветок…»
Я шел без дороги, инстинктом выбирал направление, поглядывал на компас, и только далеко-далеко копилась тревога. Было пасмурно. Не попадалось надежных примет. Глаз искал эти приметы: пень, ветку, поваленное дерево, но они как-то терялись, не удерживаясь памятью надолго, и я обрадовался, когда наконец попала тропа. Она была не хожена с осени. Тетеревиный зимний помет кучками лежал на ней. Я спустился тропой под горушку. Шумел, растекался здесь снеговой ручей, обегал темные бревна — остатки моста. За ручьем тропа канула в ельник. Я едва угадывал ее ногой, едва различал, наверное, потому, что ели завесили небо воздетыми ручищами. Молодые елки стояли ярусной стенкой. Ельник был нерубленый, вековой. В таком лесу дивишься толщине елей, уродливым лапищам корней, обилию зеленого: мхов, веток, кочек, хвои — все было разнообразно по тону, но соединялось одним угрюмым колоритом. Елочки, елки, ели, елищи… Редко пробьется сквозь них береза, и ее белое радостное тело грустно синеет, как могильная кость. Мхи, неподвижность, предвечный покой… Сказывается здесь особенность освещения или свойство зеленого цвета — в таком лесу всегда таится нечто жуткое, ждущее своего часа. Идешь, перешагиваешь через птичьи лапы корней, и совсем уж не сказка изба на курьих ногах, если б встала впереди. Даже мнится: вот свистнет, ухнет нечто, и зеленые эти лешие сорвутся — проснутся, обретут нелепую сказочную прыть; свистнет в другой раз — все станет, опять навеки задремлет, уйдет в свои нелегкие тайны…
Звуки шагов отдавались в глубине, будто и там шел человек.
Большая птица странно полетела впереди. Как в немом кино, я видел взмахи крыльев и не слышал звука. Не знаю, почему я не удержался. Навскидку, уверенно чувствуя — «попаду», ударил дублетом. Звоном заложило уши. Птица оборвалась под ель. Еще не разглядев как следует, я с горечью понял, что это филин. Он сел столбиком и заскакал прочь. Показалось — прыгает еловый пенек. Бегом я догнал лесное диво. Оно обернулось круглой головой с оранжевыми, вытаращенными, полыхающими в сумраке глазами. Филин был огромнейший, старый, рыже-пепельный. Никогда не видал я таких чуд. Одно — эта птица, скучно сидящая на загаженной жерди зоопарка, совсем непохожее тут, в сыром полумраке, в нелегком еловом молчании. Ельник словно склонился над ним, своим порождением, и защищал, ограждал, а филин, сливаясь с еловыми стволами, казался чертовщиной, каким-то оборотнем. Вон как скакал — пень пеньком…
Метровый и ушастый, он не двигался. Свечи-глаза горели не мигая. Я стряхнул странное оцепенение, осторожно пошел вокруг птицы. И магнитно стала поворачиваться за мной дремучая ушастая голова. Шагнул ближе, филин встопорщился, заклацал клювом и смело потянулся ко мне. Еще шаг — он вдруг кувыркнулся на спину, выставив, отводя к пушистому брюху раскрытые напружиненные когти. Вся моя решимость взять птицу сразу отлетела. Вцепится — не оторвешь. Я слыхал, что филин выходит победителем даже из схватки с беркутом… Я отступил. Ванькой-встанькой вскочил филин. Снова смотрели друг на друга. Лицо его — у сов ведь именно «лицо» — беспрестанно менялось: все от дикой угрозы до дьявольской усмешки перебегало там. Волосатые веки жмурились с презрением.
«Ух ты!» — замахнулся я прикладом. Но опустил. В глазах филина стыла кошачья тоска — иногда так смотрят побитые кошки, мудро и жалко.
«У леший, надо же было подвернуться! И сам хорош! Чему обрадовался? Хлоп, хлоп…» Уже трижды пожалел — выстрелил необдуманно. Как быть? Живым его не возьмешь, и зачем он мне, что с ним делать? Убить — рука не поднимается, оставить так — ни за что пропадет редкая, по-своему красивая лесная уродина. Ах ты незадача… И надо же было… Надо же…
«Придется застрелить. Хоть на чучело… — наконец решил я, отошел шагов на десять и, спотыкаясь, пятился еще, соображая: — Испорчу зарядом с такого близкого расстояния». Хватит. Стоп. Ружье в плече. Филин каменно сидит под елью, смотрит. Руки опустились. «Расстреливать собрался…» Стоял, думал… Снова поднял ружье.
— Не стреляй! — звонко и резко раздалось за спиной.
Я вздрогнул и обернулся. На тропе близко стоял человек с одноствольным ружьем в опущенной руке. Он был в зеленой телогрейке, брезентовой белесой накидке поверх нее и форменной фуражке лесника. Что-то непонятное было в его фигуре, непонятное и знакомое. «Да он же горбун? Горбатый!» — тотчас понял я, яснее осмыслив и разглядев квадратные, но какие-то немощно широкие плечи незнакомца, из которых выступала почти без шеи большая узкая голова с острым подбородком.
— Стреляли? — спросил он, не двигаясь с места.
Я кивнул.
— Филина?
— Случайно…
— Э-э-х! — морщась, с досадой сказал он. — Разве можно так! Ну вот зачем? Зачем? Я этого филина знаю. Старик… Всегда тут живет…
— Он же вреден! — нелепо оправдывался я и понимал — говорю чушь. «Филина знает? Что за чертовщина!»
— А-а… Что вы оправдываетесь? Редкость это! Редкость!! Пощадить надо было. И почему с ружьем?! Охота запрещена…
— Как же здесь без ружья?
— Ну-ка документы! Охотничий, паспорт! — Он подошел вплотную, и я понял: странный человек не отступится.
Документы он листал внимательно. Потом хмурое лицо его несколько отмякло.
— Куда идете-то? — заикаясь слегка, спросил он.
Я объяснил.
— До Бараньих? Не дойти… Исток играет, разлился. Вся пойма в воде. Кусты с верхушками скрыло. Мост снесло. Водополье нынче. Везде вода. Слышите, ложок-то шумит… Вода, — уже тихо, певуче закончил он. Худое длинное лицо лесника успокоилось, пропали гневные морщинки. Голубовато-светлые страдальческие глаза посмотрели в упор, а потом словно бы сквозь меня. Эти странные, как бы исплаканные глаза придавали дубленному вешним солнцем лицу оттенок породистости, и сам лесник вдруг показался мне похожим на англосакса, на латыша. Почему-то я представил его не в телогрейке и брезенте, не в этой потертой, с отгорелым бархатом околыша фуражке, а в шляпе, светлом костюме, джентльменском галстуке. У меня есть такая привычка мысленно обряжать встречных в подходящий к лицу костюм.
— Вот что я вам предложу, — заговорил он после краткого раздумья. — Пойдемте-ка сейчас ко мне. Недалеко, четыре километра не будет. Я здешний лесник на Щучьем. Погостите у меня… Переночуете… А завтра я вас через озеро перевезу. Там до Бараньих рукой подать. Да и ближе за озером ток есть. Полчаса ходьбы… Покажу… Вместе сходим…
Я поблагодарил, не зная, как быть.
— А-а… Ведь не познакомились. Леонид, — подал он костлявую, но крепкую и даже словно цепкую руку. — Живу здесь, на Балчуге, четвертый год.
— Неужели на выстрел? — подивился я его внезапному появлению.
— Нет, — усмехнулся он и даже порозовел слегка. — Поблизости был… Браконьеров жду вторую ночь. Тут глухарку убили. Перья нашел. Выстрел слыхал. — Помолчал, поглядел под ноги. — Сегодня не токовали глухари-то. Погода дурит. А дождь они не любят. Вообще, приметил я, глухарь загодя погоду чует, в крепи уходит. А как дело к теплу, токует, хоть снег вались. Браконьеры это, конечно, знают. Другие сутки никого нет! А должны бы… Санька есть тут, мужик из Сорокиной. Санька. И еще есть один, с Илима. Со станции… Выслеживаю их с поличным. Вас-то еще с вечера заметил. Ночевал чуть не рядом. Я без огня… Думал — браконьерить собрались… Ну что? Пошли на кордон-то?
— Да вот с ним как быть?
Филин, не шевелясь, сидел под елью.
Лесник что-то прикинул, пригляделся к филину, потом прислонил ружье к ближней ели, стал неловко стягивать намоклую накидку.
— Что вы хотите? — спросил я, все более удивляясь этому человеку.
— Возьму, — коротко ответил он. — Кажется, его боком задело. Несильно… Крыло…
— Берегитесь!
Лесник не ответил, складывал брезент вдвое.
— Ну-ка отвлеките его, заходите с той стороны! — скомандовал он и стал подкрадываться.
Филин шипел, цокал, надувался и, взмахивая здоровым крылом, угрожающе подавался вперед.
— Оп! — лесник накрыл рассерженного хищника. Из-под накидки раздалось шипение, треск материи, яростная возня.
— Есть! За лапы поймал! Держу… Надо связать… Ну-ка стащите с меня ремень. Скорее! — говорил лесник, стоя на коленях. Фуражка его торчала набок.
Кое-как мы скрутили ужасные филиновы когти и лапы в пушистых полосатых штанах, хищник умудрился рассадить леснику руку, а меня больно щипнул клювом через брезент.
— Все! Берем… Филя-простофиля… Айда-ка… Пойдем-ка теперь с нами, — бормотал лесник, подымая птицу, закутанную в брезент, как младенца.
Филин демоном выглядывал из ворота накидки, не переставая цокал.
— Пригодится — ворон отстреливать. Ворон по озеру развелось… Такая хитрая тварь… С ружьем за километр узнает. Теперь будет им загадка… Если филина или сову, скажем, на открытом месте посадить днем, на них всякая птица летит, как магнитом тянет. Орут, стрекочут, вьются… А вороны-сороки особенно… Не любят филинов… Одинокие они… Мудрецы лесные…
Он взял сверток с филином под мышку, поднял ружье, мы пошли сначала вперед по тропе, а потом свернули прямиком. Лесник знал какую-то свою тропинку, я шагал следом и глядел в его мерно качающуюся спину. Спина была крепкой и мужественной, если б не горб, несуразно выпиравший ближе к правой лопатке. Портки болтались на тощих, долгих ногах лесника. Сапоги хлопали в подколенки. Шел он споро. Временами оборачивался всем корпусом, как оборачиваются душевнобольные, смотрел словно бы растерянно, точно что-то вспомнил или, наоборот, забыл, снова разухабисто шагал. В его движении улавливалось сперва непонятное, не схожее с обыкновенной походкой. Он шел с частыми мгновенными остановками. «Так, наверное, ходят звери», — подумал я. Вот приостановился у цветка медуницы, потупившегося у тропы, мгновение вглядывался в сморщенный лик пенька, слушал резкое «ки-ки-ки» пролетного сокола, тронул на березе твердое бархатное копыто гриба-трутовика. «Ночная бабочка по цветам» — пришло нелепое сравнение.
Лес впереди редел, светлел. Началась кочковатая согра — невеселое, хотя и живописное разнолесье. Березы были тут высоки и прогонисты, ели чахлые, взлохмаченные, с посохшими снизу сучьями. Одни черные ольхи чувствовали себя хорошо, росли кучно и дружно вперемежку со светлыми осинами. Тропа петляла в сухой траве, по кочкам, а с кочек прыгали лягушки и кто-то еще.
Талое рыжее болото открылось вскоре. Вдали забелело озеро, соединенное с лесом долгим еловым мысом. Лес был и за озером, спокойные синие волны уходили вдаль, постепенно голубея, а там и совсем сливаясь с мутным темно-белым небом.
Мы были на краю кондовой уральской тайги, которая спускается отлогими хребтами в болотистое мокрое Зауралье и там переходит в мансийский урман — зеленую ровень лесов до каменных осыпей Таймыра.
Долго шли по зыбким оттаявшим кочкам. Радужно посвечивал меж ними вонючий засол. Утки с треском срывались впереди. Белохвостые кулички изящно прядали ввысь, уныло свистели: «тлюи, тлюи…»
— Вон Балчуг, — показал мой вожатый на лесистую островину, которую я принимал за мыс. — Раньше это остров был, — продолжал лесник, не оборачиваясь. — Протока была. Теперь затянуло ее травой. Лес вырос. Заболачивается озеро. Место и сейчас зыбкое. Балчуг-то по-башкирски — болото, топь, жидкая глина. Летом не вдруг пройдешь. Одни лоси прямиком ко мне заглядывают. Лось — вездеход. Ему любое болото, кочки, молодой густяк пройти пустое. Вот вздумайте вы побежать в чаще — ведь сразу на сук напоретесь, а лось хоть бы что… Люблю лосей. Красавец зверь, мощный, умный. Еще с мамонтами бок о бок жил, с зубрами. Лосей у меня здесь до десятка ходит… Вот утром, бывает, выйду рано — плывут они через озеро, только головы торчат. Один раз, под осень, медведь переправлялся… Не знаю, какая нужда его заставила, — ловко плывет, как собака…
В мелколесье завиднелась серая с зеленью крыша из колотой драни. Изба показалась, темная, кособокая, срубленная неумело и давно. Ярким был лишь наличник окна, расписанный белым и желтым, он глядел весело, будто смеялся. К избе приткнулся горелый сарай со сквозившей крышей. Стог прошлогоднего сена и огород из долгих сосновых жердей дополняли лесниково жилье. Гнедая лошаденка бродила за изгородью, позванивала железным балабоном. Его звон отчужденно раздавался в тишине, напоминал колокол.
— А вон… встречают, — сказал лесник. Пушистая кошка бежала по тропе, прямо держа полосатый хвост, беззвучно мяукала.
— Машка! — усмехнулся лесник, останавливаясь. А она уже терлась и горбила спину, путалась в ногах и заглядывала на хозяина. «Ты пришел! Я рада! Ты умный, сильный, огромный… Давай-ка поедим!» — говорил кошкин взгляд. К филину она отнеслась настороженно и, поднявшись на дыбки, с недоумением принюхалась и так же недоуменно опустилась, поглядела вверх.
— Ишь, горбуха! Сошлись мы с тобой, два горбатых… — Он вдруг посмотрел на меня своими синими глазами, и я уловил в них непонятное… А когда понял, смутился — это был обычный вопрос больного здоровому: «Как-то ты на меня смотришь?»
Я достал сигареты, протянул леснику.
— Не курю. Не люблю, — суховато отказался он и, словно устыдясь своей сухости, оправдался:
— Бросил, как сюда приехал. Воздух здесь. Цветы. Озеро пахнет. А табак все заглушает. Раньше курил… Много. Ну, проходите в хоромы-то! Я ведь один живу…
— Совсем? — вырвалось у меня…
— Нет, видите, кошка есть. Гнедко…
— Кто же вам готовит, стирает?
— А-а… — он улыбнулся болезненно и посмотрел под ноги.
Я обругал себя. Всегда так: ляп сплеча — потом стыдно. Ведь это, наверное, самое больное… Я заторопился, стукнулся в темных сенях головой, нашарил дверь.
Изба открылась просторно и светло. Но главное, что удивило меня еще в сенках, — был запах краски. Пахло здесь не олифой, не малярным запахом эмали — пахло чистым льняным маслом, тюбиками белил, сиеной и кадмием вместе со смоляным душком скипидара. Такой воздух всегда бывает в мастерских живописцев, в комнатах художников. С порога я увидел, что кухня почти не имеет стен. Она была до блеска вымыта, выскоблена, выбелена в синеву и вся завешана этюдами — большими, малыми, совсем законченными, просохшими и слегка пожухлыми и только что написанными, на которых еще лаково блестела сырая окраска. Впечатление было такое, будто я неожиданно попал на выставку. Любовно, со вкусом были выструганы некрашеные сосновые рамки. Этюды подобраны по величине, размещены в каком-то не сразу угадываемом порядке.
Я оглядел кухню. Грубый мольберт торчал у окна. Два измазанных этюдника, побольше и поменьше, стояли в углу вместе с холщовым зонтом, какой носят с собой художники-пейзажисты. Это было все, кроме печи с чугунком на шестке, маленького самовара и крашенной охрой глянцевой лавки, вытесанной, по-видимому, из целого бревна.
А на этюдах привольно плескало утреннее озеро. Сиреневые березняки смеялись в солнечном вешнем тумане. Розовый, синий, индиговый в тенях, таял на косогоре снег. Курились проталины. Синели медуницы. Голые осинки гляделись в снеговую воду. Лесной вечер отражался в лужах, гаснул закат, ночной печалью наливались облака.
Я обернулся. В сенях никого не было. Тогда я притворил дверь и сел на край лавки. Было совестно за свои грязные сапоги. Вытер наспех, наследил. Не ждал такой чистоты. Даже представилось, как лесник неловко моет пол, на коленях скоблит его, трет песком, чертыхается, зло выкручивает тряпку. Во всяком мужчине, моющем полы, есть что-то жалкое, холостое.
Я осторожно стянул сапоги, бросил их в сени и, оставшись теперь в шерстяных носках, подошел к этюдам.
Они были написаны широко и свободно. В уверенном мазке, крепкой кладке цвета, вольных контурах был виден настоящий художник, который не боится краски и тем отличается от кустаря-копииста или умельца из клубной студии. Смелость кисти была поразительная. Краска лежала почти скульптурно.
Но чем-то и странны были этюды. Какая-то общая печать лежала на них на всех, и я беспокойно искал причину. Да что же это?! Зеленая заря над голубым озером. А вот красные полосы врезались меж зеленых летних тонов. Кобальтом зарю?.. Красные ветки? Фиолетовый снег. Небо, сотканное из зеленых, сиреневых и белых тонов…
Будто кристаллами сложенное небо. Словно бы нарочно спутаны цвета. Манера, что ли? Красное вместо зеленого. Кадмий вместо хрома… А в общем, холодок по скулам, как от новой хорошей музыки. Зачем же это он в лесниках торчит? Бегство от жизни? В наше-то время?!
Особо приглянулся небольшой этюд. Молодая осина зябла на ветру. Рвался с осины последний лист. Хмурилось снеговое небушко, обещало долгую зиму. Как здорово и как просто. Тучи. Ветер. Осина.
Лесник — теперь я стеснялся назвать его так — отворил дверь.
— Устроил! — довольно сказал он, входя. — В конюшню посадил. Палок набью, чтоб не выскочил, и пускай живет. Ох, злой! Прямо леший еловый. Кидается, шипит!
Снял фуражку со стриженой головы. И я наконец разглядел его как следует. Он был бы, видимо, высок, если бы не горбатость и сутулость. Стриженый, без фуражки, он напоминал теперь подростка-беспризорника, недавно вышедшего из больницы, так худо-неказисто было долгое лицо, болезненно бледное, несмотря на загар.
— Любуюсь, — показал я на стены. — Художник, конечно?
— Так, недоучка…
Рукав рубашки у лесника был распластнут. Кровь темно звездилась на выскобленном полу. Он ушел в соседнюю комнату за ситцевую занавеску.
— Проходите! — послышалось оттуда.
Заматывая руку бинтом, он стоял в светлой и тоже очень чистой комнате, с двумя окнами на озеро и одним в огород. И здесь по стенам висели пейзажи. Впрочем, был среди них и портрет. Набросок красками как будто по памяти. Девушка. Нечто светловолосое, розовое, бездумное, с мелконьким домашним взглядом.
На прогнутых полках в углу разместились книги. Батарейный приемник стоял на тумбочке у железной койки. Стол занимал простенок. У стола, напротив друг друга стояли кожаные мягкие кресла. Они-то удивили меня особенно, огромные, нелепые, с перетяжками, с потемнелыми медными пуговицами, вдавленными в обивку. Такие кресла — редкость теперь даже в скупке старой мебели. Как занесло их сюда, в глухомань, поди-ка, с полтонны каждое…
Понимая мою мысль, лесник улыбнулся.
— Наследственные! Здесь до меня лесник жил, Виктор Семеныч. Говорили, браконьер — нет спасенья! Он тут и уток солил бочками, и рыбу в замор под весну возами отправлял, лесом торговал… Как в вотчине, в общем, жил. Кум королю… Потом посадили его. Имущество описали. Кресла, наверное, тоже. Да как их повезешь? И кому они? В добрую квартиру не поставишь, в избу — смешно. Теперь я и пользуюсь. А кресла-то?! Каждая пуговка с двуглавым орлом! Троны… Садитесь, испробуйте. Сейчас чаем побалуемся.
Мотал бинт, а кровь все проступала сквозь марлю.
— А-а, черт! — с досадой буркнул лесник, скрываясь на кухне.
Я сел в широкое приемистое кресло. Легонько и упруго оно обняло меня со всех сторон. Тело славно отдыхало в его прохладных глубинах. Я откинулся на спинку, сидел не шевелясь. В окна видно было раздолье озера, синеву дальних лесов, светлую полоску льда на свинцовой воде. Все было просто, печально, первобытно-свежо, как всегда бывает вдали от жилья, от больших городов, селений. Щучье всегда нравилось мне: настоящее лесное озеро — не слишком большое, чтобы подавлять своей величиной, неприятно-огромной равниной холодной и глубокой воды, и не слишком маленькое, не закрытое лесом, на котором чувствуешь себя стесненным, как в луже. Оно было не широко, но длинно, как северные проточные озера-туманы. Редко над его пасмурными волнами торопились стаи каких-то уток. Шел весенний жоркий пролет, который не останавливает никакая погода.
«Хорошо здесь! — подумалось с некоторой завистью. — Лес! Воздух! Озеро! Живи себе, пиши этюды, рыбачь вволюшку. То ли не жизнь?! Никакого тебе начальства, ни спросов, ни отчетов… Лесничий? Какой лесничий сюда поедет? Стережешь лес — хорошо, и на боку пролежишь — судить некому. Я вот на три дня вырвался, наглядеться не могу, надышаться… А тут каждый день… Погоди, погоди… Каждый-то день лес приглядится? Равнодушному, которому лес — дрова. Может ли надоесть самое близкое, нужное? Ведь не приедается хлеб, вода… Без них не проживешь, а без лесу можно. Посидишь тут месяц — волком завоешь. Один. Без друзей, без жены, без привычных каждое утро улиц, газетных киосков, магазинов, лотков с мороженым. Вот то-то. Позавидовал! Все мы сгоряча завидовать горазды».
Слушал песню самовара и шаги на кухне. В горницу тянуло ладанным дымом горящих шишек. По-домашнему мирно тикали ходики, и я потерял ощущение времени. Но вот самовар гневно загудел, и лесник появился с ним, неловко неся, отстраняя лицо от пара и морщась. Ярко начищенный забубенный самоваришко и на столе не мог успокоиться, фыркал, брызгался, распространял по горнице кисловатый угар недотлелого угля. А лесник хлопотал, брякал тарелками, доставал кружки, сахар, заклеклый хлеб, к которому как нельзя лучше подошла бы пословица «если долго разглядывать — не станешь есть». Появилось варенье темного рубинового цвета.
— Малина, — пояснил Леонид. — Грибов хотите? Только они пересолели. Не умею я… Мало соли кладешь — киснут, много — есть нельзя… Капуста, кажется, лучше.
Явились грибы и капуста, а он все суетился, бегал На кухню, возвращался, наконец сел. Обвел ладонью отсвечивающий на концах ежик волос и поглядел с таким русским радушием, что я чуть не отвернулся со странного стыда — давно меня так никто не встречал.
Должно быть, лесник проголодался, пил чай с увлечением, шумно, хрустел сахаром, вздыхал, крякал, отдувался. Высокий лоб и долгий нос его потно лоснились. Он вытирал испарину рукавом и быстро говорил в промежутках между глотками:
— Токов за озером много… В сорок первом квартале… В сорок втором… В тридцать четвертом… Везде глухарь теперь. До двадцати штук поет, по моим подсчетам. Еще молодых скрипунов десятка полтора… Я за глухарями строго слежу, в марте по насту считал… Самый ближний ток за озером, там, — указал кружкой на восток. — Видите, гора повыше других, вон она, шапкой поднимается. Это Медвежья. Глухая гора. В ельниках, в кедровнике, в гарях. Малинники там. Под горой, в распадке — речка… Тоже Медвежья называется… В Исток течет. По речке-то кое-где покосы старые, поляны, прогалины… Раньше был курень. Уголь жгли. Давно. А лес-то какой! И сейчас сосны, ели есть — во! На коне объезжай. Башня башней… Триста, а может, четыреста лет ей — и не сохнет. Вот глухари-то и любят это место. Придешь на ток: там щелкает, там щелкает. Копалухи: ко-о, ко-о. Косачи тут же на покосах токуют!
Он забыл про чай и, размахивая пустой чашкой, блестя глазами, продолжал:
— Я уж их не считаю. Иногда прямо на кордон прилетают. Вон, на березы-то, — показал на окно в огород. — Осенью, ближе к зиме, как поспеет на березах сережка, снежок выпадет, выйдешь рано в сенки, а косачи уж тут, затемно прилетели. И вдали-то по березнику как углем начерчено. Вот сколько!
Налил чаю, отхлебнул, поставил чашку.
— Замечаю я: всякий зверь и птица быстро к человеку привыкают, если он их не бьет, не трогает. Понимают… С ружьем или без ружья — это сразу… Я о том, что в лицо, по одежде узнают. Не делаешь птице вреда — она тебе доверяется. На что уж дикари тетерева — знаете сами, вылетит как шальной, мелькнул и нету, а жил у меня прошлое лето тетеревенок — ручнее курицы. Наберу ему травы-мокрицы, муравьиных яиц — бегает за мной, из горсти клюет, на руке сидит. Гляжу на него, думаю: «Почему это у нас из домашней птицы одни куры в почете?» Вот бы лесную птицу так приручить. Корму ей сколько, куропаткам, глухарям… Мало этим занимаемся. По старинке все: ружье, ружье. Одно ружье. Я уж сам думал такие опыты начать. Косачишки-то у меня здесь, на Балчуге, токуют. Видно, место их тут вековое. Хорошо урчат, курлыкают… Таскают друг друга, как петухи. Кошка вот их пугает. Такая потвора. Ловить, конечно, не ловит, а все подбирается, следит. Любопытство… Лупить жалко. Запираю уж теперь…
— Все-таки как же тут одному? Неужели не одиноко вам? Лес, болота кругом. Летом комары, наверное, заедают. Да и вообще без человека, без живого слова? — Я решил идти напрямик. Лесник, однако, не ответил, пил чай и, похоже, даже медленнее, чем было нужно. Так же медленно отставил пустую кружку. Что-то обдумывал.
— Мишка! Эй, Мишка, Мишка! — вдруг негромко позвал, свистнул он.
Я подумал, что он зовет собаку или кота, а в кухне застукали коготки, в дверях появился маленький полосатый зверек-бурундук. Он подбежал к леснику, прыгнул на колено, мгновенно вскарабкался на плечо и сел, забавно принюхиваясь, двигая шерстистой раздвоенной губкой, блестя выпуклым черным глазом.
— На! — лесник поднес на ладони кедровый орех, и зверек тотчас принял его тонкими лапками, отправил в рот не жуя. — На еще!
Бурундук прятал орехи с проворством фокусника. Щечки у него надулись, как будто он сдерживал смех.
— Больше не дам! — сказал лесник и снова свистнул. Зверек послушно начал спускаться и убежал, а в дверях показалась та сытая кошка, что встретила нас на тропе. Она толкнулась о кресло лбом, потянулась, выпустив когти, и брякнулась на бок. Поймав ногу хозяина, крепко обняла ее.
— Пошла! — притворно гнал он, а кошка лишь крепче жалась к ноге, мерцала глазами.
— Клеопатра! — сказал он и расхохотался, закашлял. — Так и живем. Кошка — мать того бурундучка. Она его выкормила. Я ее с котятами из деревни принес, а котята издохли. И вот как раз этот бурундучок подвернулся. В обходе я был и нашел его под колодой слепого. Подложил ей, думал, съест… Выкормила. Вместе играют. Она его схватит за шиворот и носит. Не убегает он никуда… Зимой только спит все время в подпечье. А вообще-то Машка бурундуков ловит и ест. Вот вам загадка. Хо! Что это?! Никак, выстрел? — Он обеспокоенно заерзал, вылезая из глубины кресла. — Неужели не слышали?
— Нет…
— Стреляли, стрелял кто-то! Ну, вы тут пейте, а я сбегаю… Близко вроде… У Афонина покоса. Кто бы это?
Он проворно убежал на кухню. Шлепнули с печи сапоги. Через минуту брякнула дверь, за крыльцом прочмокала грязь.
«Покрасоваться, что ли, решил?! — подумал я, проводив в окно мелькнувшую фигуру лесника. — Или блажной какой-то? — Все в этом человеке удивляло и настораживало: его необычный вид, странный проникающий взгляд, от которого хотелось отвести глаза, быстро-нервная речь, когда слова бегут как мысль, с обрывками и недомолвками, и то, как он замолкал, и чувствовалось: все! не отпереть никаким ключом. — Этюды… Почему все-таки он пишет закат зеленым? А лес коричневым с ясной синевой? Убежал… Из-за стола… Недопил чай… Чудак. Право, чудак… Где он, кого сейчас найдет? В такую погоду искать браконьера все равно что иголку в стогу, и, пожалуй, ее найдешь скорее».
Прихлебывая чай, я раздумывал о новом знакомце, оглядывал его жилье. Вдалеке еще раз бухнул выстрел, теперь уже ясно, отчетливо. Стреляют…
Я вышел из сеней. Снеговое небо провисло над черным лесом. Дымного цвета облака тянулись по верховому ветру, быстро меняя очертания. Пасмурной тоской, севером веяло от них. Я вернулся в избу, оделся и пошел бродить по Балчугу. Дождь не перестал, хотя кропил редко, и на горизонте иногда желто светлело. То одна, то другая низкая туча напарывалась на острые коньки елей, затуманивая их. Начинал слепить снег, летел густо, кружил и переметался перовой метелью. Все вокруг — земля и трава — ненадолго первоснежно белело, и казалось: это не весна, а поздняя осень с таким же скупым пасмурным светом, и вот-вот зима, уже близко, а завтра все заметет, станет бело и глухо. Но стихал снег, и тотчас начинало таять, проступала трава, темнели лужи.
Сразу за огородом было чернолесье, где паслась гнедая лошаденка. Со спины и боков ее шел пар. Она подняла голову, посмотрела сквозь челку, как удивленная женщина, мотнула гривой — черт носит, — снова принялась выщипывать с корешка прошлогоднюю траву, спокойно охлестывая себя хвостом, побрякивая железным балабоном. Я прошел мелколесье, и открылась порядочная пашня, огороженная старым, а кое-где подновленным жердьем. Белоспинный дятел ползал по изгороди и стучал. Он тоже поглядел с подозрительным недоумением — так смотрят в деревне на незнакомых, — даже замер на мгновение, а там пустился споро долбить мокрую жердь, по всей длине которой лежала белейшая полоска снега, оттененная черным. Я подошел к дятлу почти вплотную — он не улетал, все стукал и стукал упорно, слегка переползал, пока не обследовал жердь до конца. Тогда он насупился, оценивающе глянул, склонив набок свою расписную черно-белую с красным пятном голову: «И что ты тут шляешься, бездельник, мешаешь работать. Тоже мне, уставился!»
Дятел нырками полетел к другому столбу, цепко оползал его и снова захлопотал.
По пашне тянулись зеленые бархатистые строчки. Горностаевыми спинками серебрился на них сырой снежок. Я пролез меж скрипнувших жердей. Тысячи молоденьких сеянцев кедра выставили над землей шелковые усики, рядом шли строчки сосновых ершиков и еще какие-то с виду безжизненные сухие стебельки, должно быть, побеги лиственницы.
«Сам, наверное, сеет…» Раздумывая о новом знакомце, я тихо бродил по островине. Торопиться было некуда, а островина оказалась большой, гораздо больше, чем представлялась сначала. Смешанный лес со старыми елями одевал ее всю, лишь кое-где, должно быть, на месте вырубок, белел высокий частый березняк. Попадала и осина сплошными рощицами, зеленокорая и веселая даже в этот угрюмый день. Зайцы шарахались здесь, мелькали рыжим и белым. По листовым тропкам, подняв хохолки, перебегали рябчики. Наткнулась на меня стельная косуля, побежала неловко, как может бежать лишь обремененная.
Везде находил я следы деятельности лесника: стожок сена, растеребленного лосями, срубленные осины, До костяного блеска обточенные зайцами, кучи мелкой озерной гальки, иногда колоды-дуплянки. Ни один выстрел больше не омрачал живую тишину леса. Лишь шуршал дождь, возились мыши в листовой подстилке, да птицы сильнее пели к вечеру. Лесной конек взлетал с однобокой живописной ели, парил вниз над полянкой, и его стонущее, протяжное «вить-вить-вить» тревожило душу колдовским наговором. Меня всегда завораживает песня этой долгохвостой, серой, тонкоклювой птички.
К кордону я вышел в сумерках. На берегу, близ воды, красно горел костер. Кипел в огне черный котелок. Лесник, словно еще более горбатый, угрюмо, как показалось мне, помешивал в нем, стукал по краю ложкой, отирал рукавом слезу. Рядом терпеливо жмурилась на огонь все та же серая кошка.
— Вот животина никуда от меня, — толкнул он кошку. — И в лес сопровождает… Гоню уж… Думаю, потеряется… Забежит куда-нибудь. А вообще-то читал я, один кот к хозяину за двести километров пришел. Ухи ждет. Умница она у меня. Слышишь, ты? О тебе говорят…
Кошка приоткрыла глаза, вытянула передние лапы, изогнула спину и потянулась.
— Все понимает…
— Нашли, кто стрелял?
— Вон, в сенях стоит…
— Кто? — не понял я.
— Ружье отобрал… Парни из Сорокиной… Деревня тут, километров восемь, ближняя ко мне. Эти так… Балуются по молодости. Осенью отдам. А то бы… — Он как-то мрачно, криво усмехнулся и поглядел в сторону. — Пусть пока у меня отдохнет. — Поправил сучья в костре. Хлопал по земле загоревшейся веткой, бросил в костер.
Я спросил про питомник.
— А-а! — откликнулся он охотно. — Видали? Главная моя забота. Все лето и весной тоже в нем копаюсь. Хочу понемножку лес облагораживать. Хоть поблизости. План себе составил, где садить и что… Тут, видите, раньше везде лес рубили. Выборочно рубили — какой получше. На уголь жгли и возили в Старую Утку на завод. По сечам-то и наросло осиннику, берез, липы, а хвойного дерева нет и нет. Осину я люблю, красивая. Нежность в ней лесная живет. Взгляните на кору — тона такие, оттенки… Ну и древесина поделочная. Лодки, долбленки, спички наконец… Только недолговекое дерево. Чуть за полсотни — начинает гнить. Гнилушки, сами знаете, в дрова и то не годятся. Я и начал сводить понемногу осинники. Ель сажу островами, сосну, кедр, где орехами, где саженцами. Дело хлопотное — лес садить. Механизация у меня — пока одна лопата. Бурав еще такой приспособил, вроде большого коловорота. Им быстрее. Повернул раз-два — готова ямка. Сади… А сеянцы я из питомника беру или просто густяки прореживаю.
— Так ведь это капля в море! — возразил я.
— Судите как хотите… Я один уже гектары леса посадил. А если б помощники были?
— Разве лес сам не возобновляется?
— Возобновляется, конечно. Да самосевом он редко хороший идет. Какое, по-вашему, дерево нужнее? В первую очередь сосна. Ну ель, лиственница, кедр. Краснолесье… А растет на вырубках березняк с осиной. В год по метру и больше прирост гонит, все застилает, в иных местах не пролезешь, не продерешься. Вырастет березняк или осинник, скажем, пока сам по себе проредится, взматереет, тогда у него под пологом хвойный лес пойдет — так и в триста лет не дождешься.
Он встал с колен, снял сучком бурливший котелок. Отставил в сторону. Котелок тотчас смирился, перестал клокотать, только курил вкусным паром. Костришко тоже словно остыл, рассыпался углями. В находящих сумерках долгое лицо лесника было нелюдимо-жестким. Может быть, казалось так от заревого света углей, которые то медленно замирали, тускнея под пеплом, то вдруг вспыхивали желтым с голубой обводкой пламенем, и недолго оно рябило над головнями.
Пасмурным шумом шумели озеро и лес. Ночная мгла заволакивала небо с севера. И он, как колдун, чернел на этом мрачном, фиолетово-сером.
— Вырубим… Высечем… — словно сам с собой заговорил он медленно. — Кого? Зачем?.. Ну а потом? Потом что?
Он прищурился на меня, точно я был виновником лесных бед.
— Дальше что будет? Вы биолог… Объясните, пожалуйста, что будет дальше? Ну через каких-нибудь сто лет… Одни поля? Города? Вырубки? Народ-то ведь прибывает. Его кормить надо. Эшелонами города хлеб едят… Мяса сколько надо, масла. Верно. Ну а кислород-то на земле кто даст? Дышать чем? Дымом фабричным? Читал я: одна береза кислорода дает больше, чем гектар хлебов, — подумал тогда: счастье — леса у нас. Не зря они на земле — и беречь их надо бы, ох как беречь! Не понимаем пока этого счастья. Оно как здоровье: есть — не ценим, ушло — хватились, по врачам забегали. И ведь кого ни спроси — вряд скажут: любим лес! А что он такое для многих? Грибки-ягодки? Цветочки? Оформление для выпивок? Кусты? Едем к нему, топчем его, рубим, обираем, гадим… Потом плюемся: «Ничего в лесу не стало! Бывало, рыжиков корзинами… Белых… А уток-то сколько бивал, а рябчиков! Теперь взять нечего». Взять все… Взять! Взять! Взять! Вот как мы его любим! — почти закричал он и, должно быть, устыдившись своей горячности, осекся, покривил фуражку, сказал другим голосом:
— Ну-ка, может, уха у нас поостыла? Нет, горяча еще… Невозможно есть… Да…
— Что же вы предлагаете? — спросил я, видя, что лесник, пожалуй, замолчал надолго.
— Да что предлагать… Вдруг это все не решишь, тут думать надо, и не одному — многим. Может быть, комиссии нужны, законы новые. А пока так просто: срубил дерево — посади два. Нужда-то ведь в них больше будет… Лес снял — новый посей, самый лучший… Тех же, кто рубит, и садить, выращивать бы обязал, чтобы знали, как он помаленьку, по веточке, в год растет. Вот я уверен, если б хоть один человек дерево строевое посадил, ну хоть сосну, и дождался бы, когда она лет до ста вырастет, и ходил бы за ней, и смотрел, он бы топор поднять не осмелился. Лес… Я бы его и под пашни сводить не давал… Самая простая эта уловка: надо, окажем, дровишки, неохота за ними ехать, на далях рубить, — вали, ребята, у самой деревни, потом скажем — пастбище понадобилось… Здесь, в Сорокине, колхоз есть… Лесных угодий у него двести восемьдесят гектаров с лишним. И рубят они эти гектары, только треск стоит. Ни с кем не считаются. На лесосеке сучки, хлам — семенники не оставляют. А-а… Вмешался я было, к председателю явился. Так и так. «Почему в верховьях Истока рубите?» — «Надо, и рубим. Клуб строим». — «Там водоохранная зона!» — «Какая такая зона? Ничего не знаем…» — «Запрещаю вам рубку». — «Наш-то лес?» — «Не только ваш, еще и народный. Рубку запрещаю…» А он только похмыкивает, улыбается и на дверь смотрит… На-кося, мол, друг, да иди отсюда восвояси — запретитель нашелся! Через день проверил — рубят. Хотел пилы отобрать… Что я сделаю против двадцати мужиков, да и, так сказать, смешно это… Я в лесничество… Пока суд да дело, шестнадцать гектаров как корова языком слизнула. И вовсе не клуб никакой, на сторону они лес продали. Правда, штраф заплатили. Так ведь председатель не из своего кармана вынул. А лес разве такие деньги стоит, попробуйте-ка вырастите его…
Я не нашел, что ответить. Из своего малого знакомства с лесным делом, из газет я знал, конечно, что лес рубят, план выполняют, что есть еще и «переруб». Это слово тревожило меня, горожанина, однако не сильнее, чем слабенькая боль человека, не ведающего ее причин. Иногда, читая о «перерубах», я задумывался, представлял, как картинно и медленно валятся сосны, — видел такое не раз в кино — представлял, как их стволы-хлысты волочет упрямый гусеничный трелевочник, вспоминал тяжело громыхающие составы, с верхом груженные желтой доской и мерзлым кругляшом, и всегда думалось: вот где-то рубят, грузят, а может быть, это и есть тот самый «переруб».
Лесник словно ждал какого-то ответа и, не дождавшись, досадливо махнул:
— Сколько, скажите, еще земли безлесной, бесполезной. Ну, пустырей всяких, свалок, залежей. Или мало? Вот и сей, удобряй, ходи за землей, чтоб родила, чтоб каждый пустой метр пользу давал. А лес побереги… В города бы его, на улицы… Да каждому, каждому, чтоб не привыкал топором зря махаться, с пеленок бы вдалбливать: сади, сади, сади. Яблони, липы, елки… Дубы, чтобы память тебе была. Поглядите-ка на туристов. А? Да я их пуще охотников ненавижу! Не боюсь этого слова! Не-на-ви-жу! Ведь только в лес зашли — и как враги какие… Сейчас сечь, рубить, гадить… С хохотом, с издевательством… Надо, не надо — в костер. Рубят. Рябину — так рябину, ель — так ель. Ничего не жаль. Ни красоты, ни дерева. А пожары?! Кто их делает? Прошлую весну, помните, сушь была, дожди запоздали, замучился я. Подойдет воскресенье, суббота — и то в одном квартале горит, то в другом. Как он, лес-то, корежится, стонет! Слушать, глядеть страшно. А ты что? Бегаешь с лопаткой в дыму, в слезах, окапываешь… Ведь лесной-то пожар — все равно что деньги в кучу сложить и сжечь. А-а… Или вот еще мода — верхушки у елок обламывать. Эти… Сувениры… Да? Возле Илима весь ельник по дороге без головы стоит. Люди… — Он вздохнул, смотрел на дотлевающий костер.
— На неделе за почтой я ходил… На станцию. Возвращаюсь — навстречу двое… Хорошо одеты, цивилизованные с виду. Он в берете, она в платочке суздальском. Костюмы, ботинки. Женщина роскошная. От таких всегда одинаковыми духами пахнет. И несет она целое беремя подснежников, охапка — вот, в ведро разве только поставишь. Подвяли они уже, головки склонили. Хотел пройти — не смог, остановился. «Зачем же, — говорю, — вам столько? Это ведь подснежник, сон-трава, цветочек исчезающий…» — «А что? Нельзя?! — Мужчина так на меня смотрит. — Жаль, что ли?!» — «Жалко, — говорю. — Лес обобрали. Обокрали, проще-то… Других обокрали и себя». Я, когда такое вижу, собой не владею и почище сказать могу… «Пойдем, — говорит европеец. — Он пьяный, не проспался». И все в том роде, не повышая голоса. А ведь она завтра все это в помойку вывалит. Ну ладно. Давайте-ка за уху. Простыла небось…
Худой рукой он потянул котелок за копченую дужку.
Мы подбросили в костер. Уселись удобнее. Сучья разгорелись, и стало веселее, хотя дым все время стелило, но земле и выметывало в лицо. Уха из ершей и окуней была крепкая, жирная, наваристая, с тем несравненным ароматом и вкусом, какой бывает лишь у самой свежей пищи на вольном воздухе. Отирая дымовые слезы, морщась, хлебал я ее с усердием, наслаждением изголодавшегося по горячей еде. А лесник и за едой не мог успокоиться. Хлебнув ложку-другую, откусив черствой краюхи, он отставлял крышку котелка и, жуя, глухо говорил:
— Откуда… скажите… идет это? Человек — все! Он — царь, бог, господин, мыслитель, повелитель… А прочее — низшее, недостойное, рефлексы… Да, рефлексы… Как же! Ведь это только мы, люди, можем страдать! Нам только осмысленно больно. Собаке вот больно, а неосмысленно. Ха… Конечно, читали Арсеньева? Помните, Дерсу все очеловечивал. Вода, лес, камни, скалы, птицы — все у него «люди». Лю-ди! Помните: «его все равно люди, только рубашка другой. Обмани — понимай, сердись — понимай, кругом — понимай?» А? Ведь в этом какой смысл! А критика даже не поняла. Ведь он говорит, что и дерево, и птица, и муравей заслуживают уважения. Никто не дал нам такого права, чтоб их из жизни… Насовсем, топором, каблуком…
Он поперхнулся, с треском кашлянул, бросил ложку и, вытирая глаза, размахивая руками, продолжал:
— Наверное, я переборщил. Сейчас кто-нибудь уцепится: «Вы кто? Слюнтяй? Вегетарианец! Толстовство?» Уху-то хлебаете… Не о том я говорю… Говорю — раз человек богом стал, пускай будет тогда богом добра, справедливости, разума. Вот чего подчас не хватает… Разума… Сдержанности… Человечности… — Потряс кулаками и устыдился, смотрел в землю, поправил повязку, уже загрязнившуюся и серую, заговорил тихо:
— …И я ведь лес рублю. Делянки отвожу. Надо. Кто спорит, если лес вызрел, зачем ему на корню гнить… А знаете, смотреть все равно не могу. Не могу! Как он валится! Как дерево падает, вздрогнет все, заноет, застонет и валится тихо. А-ах… Ухожу. Я ведь лес еще с другой стороны ценю. Красота… Вот чего жаль. Какая бывает красота… Ели, осины, березы. Опушки. Болота моховые, чащи осиновые… Вроде бы что тут? И кому другому, конечно, дрова, дрова… А мне-то каждую вершинку жалко. Вот ели, скажем, островиной синеют, там береза наклонилась, облака над ними пасмурные тянутся… Или ночью идешь, и светает, белеет. И эти вершины… Ветер в них… Да не могу передать, как это на меня действует. Живет что-то там, в вершинах, и в небе, и в далях. Вечное живет, вечная красота, и все бы смотрел и думал, душой отдыхал. А тут под пилу… И нет красоты. Погибла для всех. В пейзаже, знаете, одну какую-нибудь ветку убери, пень, валежину и потерял, что-то главное потерял. Пейзаж есть, а красоты нет… Вот садить лес я люблю. Рук не хватает. Деньги на сезонников каждое лето дают, а кто пойдет? Мужчин днем с огнем не найдешь — в колхозе заработки не в пример выше, а женщины иные пошли бы садить — боятся в лесу. Даль, глушь… Обхожусь кое-как. Только и примешь на работу, когда сено дашь по еланям косить или дров из сухарника. Да не очень у нас уважают перестойник рубить. Отведешь делянку, а он только плюнет — давай ему здоровый лес на дрова…
Он вывалил кошке белоглазую разваренную рыбу и, покачиваясь, клюющим шагом пошел к воде мыть котелок. Стемнело. Костер шипел и дымил. Дождь пошел гуще. В сумерках он казался серым, должно быть, от пролетающего снега. Я ни разу не видел такого странного дождя и так изменившейся за его пеленой дали. Вообще мы редко видим лес в непогоду. Мало любителей бродить в нем в дождь и снег, ночевать под сырым небом ранней весны и в глухую темень предзимья. Я подумал, что художники грешат тем же, и вот не видим мы чудносиних небес зимней оттепели, дождевой сутеми и вечерних угасаний. Не видим плакучих зорь, мокрых рассветов, когда неожиданными, нездешними красками то горит, то тлеет небо, вода и даль. Вспомнилось, как любовался я чьим-то этюдом, может быть Остроухова. Обложное летнее ненастье в захолустном городишке. Окраина, где мокрые крыши, тишина, улица в скупом свете вечера и нежнейшие блики на кровлях и лужах от пробивающейся сквозь тучи зари.
Над озером, в мрачном куполе неба и по горизонту что-то вспыхивало, дрожало красноватым светом, гасло и снова занималось — не то дальняя беззвучная гроза, странная так рано весной, не то всполохи северного сияния, вестники сильной магнитной бури. Я поглядел на ручной светящийся компас, стрелка прыгала, рыскала во все стороны.
— К худу такое! — Лесник повел по мутнеющему горизонту. — Ветер будет… Непогода. Сколько раз замечаю: начнет в облаках поблескивать — не жди добра. Ранняя нынче весна… Затяжная… Холод будет и снег. По зайцам видно. Зайцы долго не линяют… Как все мало знаешь, мало видишь! Только-только я лес начинаю понимать. Учусь. Он вперед все знает. Не верите? Сам не верил… Вот к примеру: много ягод на рябине — это к ранней крутой зиме, мало грибов под осень — тоже… Нынче вон как сок из берез бежит… Дождливое лето будет, — усмехнулся. — Не верите? Вижу. А так. Вот Гнедко у меня к ненастью всегда храпит. Как начнет головой трясти, закидывает ее кверху — обязательно дождь…
Помолчал, щупая мокрую, белеющую от снега траву, вытер руку о брезент.
— По радугам можно погоду угадать. Крутая радуга к ясной погоде, чем зеленее, положе — дольше дождь, а синяя радуга — вовсе к ненастью. Я и сегодняшнюю погоду угадал. Все сошлось. Кто, думаете, сказал? А жаворонок. Не слышно его с самой зари, и журавли молчат, и лягушки. Помните, как они с кочек сыпались, ну когда мы сюда-то шли…
Мы вернулись в избу.
— Ложитесь раньше, — предложил Леонид. — Вставать до свету. Вот на мою койку. Ни-ни-ни! Еще что выдумали! Я устроюсь! — замахал он на мое намерение лечь на полу.
И пока я стоял в нерешительности и прикидывал, как быть, он сдвинул кресла, поставил меж ними две табуретки, принес откуда-то сенник, получилось нечто похожее на постель.
— Еще лучше вас устроюсь, — сказал лесник.
Стыдясь своего положения гостя, который стеснил радушного хозяина, я разделся и лег. Лесник задул лампу и тоже улегся на своих креслах. В комнате запахло копотью и стало так темно, что я инстинктивно ощупывал свое лицо, зажмуривался, открывал глаза и снова жмурился. Казалось, что я ослеп. Наконец глаза немного привыкли, и я различил перекрестья оконных рам. За ними была мутная жутковатая пустота и глушь, точно окна глядели куда-то за край земли. Я подумал, что в городе никогда не бывает такой тьмы и мглы. Даже небо, отражая огни, светит там, а здесь первобытная темь, и к ней не скоро, наверное, привыкнешь. Спать не хотелось, я лежал с открытыми глазами, слушал шуршание дождя, плеск волн, вздохи ветра над кровлей. Лесник тоже как будто еще не спал, ворочался, похмыкивал.
«Забрался сюда, к чертям на кулички… Ищет чего-то… Бьется. Этюды пишет». Он спутал все мои крепкие представления о лесниках, с которыми приходилось встречаться. Как часто это были обыкновенные люди, хозяйственные мужички, иногда пьяницы и плуты с табачными блудливыми глазами, с вечным запахом спиртного, лесники, ничего не смыслившие в лесном деле. Набирались они из людей случайных, должность свою исполняли по принципу: абы где работать да достаток иметь. Достаток же в лесу всегда сыщется…
— Разве у вас не должно быть помощника? Бывает, кажется, на кордонах пожарный сторож? — не утерпел я, прислушиваясь к покашливанию и хмыканью лесника.
— Есть! — глухо раздалось в ответ. — В Сорокине живет… Толку от божьей коровки больше. Пойдет будто на вышку дежурить, а сам по ягоды. День его нет и два, и по неделе не бывает. Хромой. Плотничает… Раньше с прежним лесником у них рука руку мыла. Со мной не ужился. К тому еще изба у него сгорела. Не его изба, лесничества… Уехал в деревню. А огороды я у них под питомник… Национализировал, — должно быть, усмехнулся в темноте лесник и замолчал.
Проснулся я в такой же тьме, даже в окна не белело.
— Вставайте… Всех глухарей проспим. Погода только плоха. Не пойдете, может? — говорил Леонид, вылезая из своих кресел.
Я на ощупь тянул сапоги, отчаянно зевал. Казалось, будто не спал я вовсе или только что заснул.
Меж тем лесник зажег лампу, царапал стеклом о горелку, наконец, вставил, прикрутил фитиль. Стекло запотело, медленно отходило. Желтый огонек моргал, вздрагивал, будто и ему было зябко.
Собрались мы скоро, вышли в сени и оттуда в пахучую ветреную тьму. Ветер ударил в лицо. Ветер шумел в недальнем лесу. Ухала в берег волна. Стучала на сарае полуоторванная тесина…
— Раскачалась непогодушка… — пробормотал лесник, выходя вслед за мной, прихлопывая брякнувшую железом дверь. Кругом была ямная темь. Я долго не мог ориентироваться, ступал ощупью и, как ребенок, держался за жесткий брезент лесника. Наконец я различил песок берега и мрачную равнину воды. Тучи стелились над ней, светлые на черном, с быстро меняющимися краями. Озеро показалось беспредельным и зловещим, особенно вдали, в непроглядной черноте. Волны равномерно расхлестывались по песку, откатывались, оставляя пену. Иногда достигали двух плоскодонок. Мы сдвинули ту, что была побольше, спустили носом в озеро. Лесник велел садиться, подал весла. Через минуту, оттолкнув лодку, он сам очутился на корме с шестом в руках. Волна застукала в поднятый нос. Лодка закачалась. Я выровнял ее натужными гребками, и она упруго пошла на волну в ветер и мглу. Дул студеный хваткий полуночник. Светлячками мигали в тучах звезды, но дождя не было, и я подумывал, что погода разгуляется. Дальний берег Щучьего смутно угадывался. Он был плотнее ночного неба. Когда я освоился с лодкой и почуял, если можно так сказать, ее характер, она пошла ровнее, хотя качало сильно, с весел летели брызги, уключины скрипели, иногда о борта постукивали льдинки, и я все никак не мог отделаться от ощущения, что стоим на месте и даже словно бы плывем по валам назад. Лесник на корме почти не двигался, правил молча. То, что я принял впотьмах за шест, оказалось рулевым веслом.
Мы плыли долго, может быть, целый час, а лесник все помалкивал, лишь показывал, куда поворачивать. Может быть, он обдумывал что-то или выговорился вчера, но его молчание как-то угнетало, и все время хотелось спросить, что с ним. Я никак не мог примериться к этому человеку: то откровенному до горячности, то замкнутому и как будто надутому.
— Почему озеро Щучьим называется? Щуки, что ли, много? — спросил наконец я, чтобы не молчать.
— По рыбе… — нехотя отозвался он.
— Здесь ведь в лесах есть еще озера?
— Есть… Малое Щучье… Половинное. Пронино еще…
— Говорят, будто в Истоке бывают крупные щуки?
— Врут. Такое дело… Рыбак да охотник…
— …
— Сейчас мель будет. Левее, левее, круче забирайте!
Лодка все-таки заговорила по дну. С хрустом зашелестел песок, мы встали. Берег был близко.
— Подвести к глухарям или сами? — неожиданно спросил лесник. — Дело-то, видите, какое: надо мне тех браконьеров задержать… Ну, которых я вчера ждал. Обязательно ведь они явятся… Так если сами пойдете — берегом держите. Шагов через двести попадется тропа. Вот вам фонарь. Тропу найдете, идите ею, пока не начнется подъем на Медвежью. Речку услышите — она теперь сильно шумит. И сторожитесь уж, слушайте. Глухари тут везде токуют. Обратно приеду за вами к полудню. В случае чего стреляйте три раза… Ну как?
Показалось в темноте, что смотрит он испытующе, насмешливо и даже улыбается.
Лесниково предложение не привело меня в восторг, но самолюбие требовало ответить утвердительно. Я надел ружье на шею, сунул фонарь в карман и полез через борт в черную воду. Зачерпнул в сапоги, испугался, выругался, шумно пошел к берегу. Лодка тотчас отплыла — лесник, видимо, торопился, — очень скоро она потерялась, лишь всплески весел, затихая, слышались долго.
Первым делом на берегу я осмотрел ружье. Оно открылось с привычным хрустом и щелканьем, ловко приняло патроны, молодецки захлопнулось, тая угрозу. Зачем-то я даже погладил стволы. Потом вылил воду из сапог, надел их и поглядел на фосфором мерцавший компас. Он показывал почти в нужную сторону. Я включил фонарь и осторожно пошел через камни и полузатопленный плавник проседающим под ногой песком.
Чувствовал себя я нехорошо, тревожно. К тому же промочил ноги. «Один, один, один», — отстукивало сердце, и становилось даже немножко душно. «Как теперь вернусь? Вдруг он не приедет?» — лезли детские мысли и почему-то не казались глупыми в темноте и шорохе ветра. В ноги бухало волнами, иногда окатывало брызгами, где-то позади был разлившийся в бесконечных поймах Исток, слева выжидающе и враждебно чернел лес.
«Останься, не ходи никуда… Кто опросит тебя? Лесник? Но ты всегда можешь оправдаться. Погода плохая, не ходи дальше. Смотри, какая темень, а в лесу будет еще чернее. Не ходи, не ходи», — словно нашептывал мне кто-то, все хотелось обернуться, прислушаться. И я даже оборачивался. Всматривался. А потом усилием побеждал страх и шел дальше.
Тропа повела в непроглядную сырость ельника. Фонарик едва горел, должно быть, кончалась батарея, жалкий кружок желтого света дрожал под ногами, высвечивал протаявшую траву, мох и кочки. Я спотыкался, хлюпал по воде, проваливался едва не по колена, шуршал по сыпучему снегу. Там, где лежал снег, было немного светлее, синеватый отсвет давал различить подножия деревьев. Высокий безмолвный лес накрывал меня, и порой представлялось — иду бесконечным сырым подземельем, так глухо, мрачно и темно все кругом. Временами я останавливался, гасил фонарь и слушал… Раз послышалось: шел кто-то редкими тяжелыми шагами, шел и останавливался. Так часто бывает в лесу, когда нервы напряжены и слух обострен: то слышится непонятный гул, то какой-то гром, словно взлет невиданной птицы, — и никогда эти тревожащие шумы неясны, неведомы вполне, как некий звуковой мираж.
Когда тропа стала суше и ощутился подъем, донесло рокот и разговор речки. Она шумела по-весеннему буйно, точно где-то там, в черноте и тумане, обрывался стометровый водопад. Впереди посветлело. Не то поляна, не то прогалина.
Щелкнуло четким костяным звуком. Тишина. Снова щелчок… Еще и еще. Щелканье походило на громкое «тэк», «тэк», «тк», изданное кончиком языка, словно кто-то восхитился, придя в изумление. Я уже понял. Он! Близко впереди, и, наверное, слышит меня. Замер, боясь ступить дальше, а звук стал раздаваться чаще и равномернее, будто медленно двигался по лесу некто костяной и косточки его постукивали: «тэке… тэке… тэке…» Смолкло. Тишина заложила уши. Будто и речка внизу утихла. Так было непонятное время. «Уэк, уойк!» — по-английски крикнула ночная птица. «Тэ-тэк… те-тэк тк… тк… тррр», — послышалось, убыстряясь, и вдруг впереди кто-то побежал с хворостиной вдоль забора, и этот треск перешел в жадный и жаркий железный шепот. Баба-яга шептала-причитала там, творила свою нечистую молитву. Забыв, постукивала себя по костяной ноге и снова шептала горячо, убежденно. Слушал, дивился, озноб стекал по спине. Дик внезапный этот лесной шепот. Вот сшумело, переместилось по лесу. Будто ветер пронесся вершинами. А я все не мог усмотреть глухаря, хоть и ясно различал теперь на бледно зеленеющем небе треугольные вершины елей. Высокий слом обозначался впереди, ель с обитой молниями верхушкой… Вот завозилось, заворочалось на сломе, черная длинная рука поднялась и пошарила по небу, будто щупала, крестила звезды.
«Он!» — с восхищением смотрел я, различая теперь и задранный хвост птицы, и весь ее профиль, как-то напоминающий древнюю лиру. И снова холодом окатило спину. «Тк… тк… тк… ткрррр… чишуша-шивашу, шува-шик… тк… тк… тк… тктррр чишуваш, шухаваши, шухаваши», — колдовал глухарь.
Посветлело. Желтое, кумачовое огниво длинными лентами проступало меж облаками. И вершины, самые макушки леса тотчас зарделись отсветом. И посинели тучи. Лес словно улыбнулся солнцу, как улыбается спящий, когда заревой свет тихонько и ласково трогает его. Опускалась в низины ночная мгла, оборачивалась туманом, оседала изморозью на камнях и ветках и совсем исчезала под теплым лучом, чтобы снова родиться с первой звездочкой под скрип козодоя и песню зорянки. Сколько раз видел я лесные утра, и они были новы, никогда не повторялись, раскрытые в цвете, тишине и восторженности словно бы кем-то добрым, чье имя я не знал, но всегда чувствовал.
Лопнул сучок. Хруст и шелест повторились дважды. Глухарь смолк. Я видел его хорошо. Вислокрылая птица с развернутым хвостом монументом стояла на сломе. Вот глухарь переступил, тревожно поводя шеей. Перо его вдруг пригладилось, хвост сложился.
Бац! — огненным снопом полыхнуло справа, меж деревьями. И тотчас, еще не понимая, что случилось, я увидел, как глухарь валится с ели, медленно кувыркаясь, задевая ветки. Веско стукнуло в снег под елью, захлопали, заперебивались крылья и смолкли…
Качались воздетые еловые руки. Поспешно шуршали по снегу шаги. С ружьем наизготовку я побежал туда с одной-единственной мыслью, от которой стало жарко: «Ах ты сволочь!»
Я продрался сквозь ветки, вылетел на прогалину к подножию ели и в упор столкнулся с темным курносым человеком в телогрейке и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами. Мешковатая кепка незнакомца была надвинута на самые уши. Черные внимательные очки двустволки смотрели мне прямо в грудь. Сперва незнакомец опешил, но через мгновение глазки под каменным уступом лба блеснули насмешкой, он потянулся к лежащему в снегу глухарю и, оскалясь блеском стальных зубов, бросил:
— Опозда-ал!
— Документы!! — заорал я, сам не зная зачем.
— Чи-во-о? — уже совсем другим голосом протянул незнакомец и разом выпрямился. — Документы тебе? Энти, что ли? — тряхнул двустволкой. — Раз покажу — боле не захочешь. Документы…
Медвежьи глазки совсем спрятались под лоб.
— Кто такой, чтоб права качать? Сам-то ты кто? А?
— Я — инспектор… Вот… Пожалуйста… А ты браконьер! Сволочь ты… Понял? — говорил я, торопливо шаря за пазухой.
— Но-но-но-о! Не шибко! Чо разорался? Мы ведь давно пужаные… Иди-ко, дядя, не ори. Сам-то чо здесь? Сухару караулишь? Вон тамо ишо глухарь поет… Енспектор! Пока, значит.
Потянул глухаря за пепельное крыло, перехватил за жесткие лапы, встряхнул и, усмешливо, волчье глянув, пошел прочь валкой походкой. Мертвый глухарь волочился головой по снегу, оставляя темные кровяные следки.
— Не стреляй смотри, а то ишо убьешь… — раздалось из-за елок, кепка скрылась в подлеске, затихая, хрустел, осыпался снег.
Я топтался на проталине с ощущением человека, которому неожиданно и густо плюнули в лицо.
Было совсем светло. Ветреное утро занялось. Лес шумел весенним безлистым шумом. Всюду заливчато пели зяблики. Свиристели зорянки. Слышались тетерева. «Кры-кры-кры, — тревожно кричала черная желна. — Кры-кры-кры. Киии-а-ай», — застонала она.
«Человека заметила», — подумал я.
Бум! — грянуло, раскатилось там. И слышно — снова повалилось, захлопало. Стихло все. Лишь желна кричала уже вдалеке: «кры-кры-кры… кры-кры-кры…»
Опустились руки. Бежать туда? Позвать на помощь? Сесть в снег, зажать голову? Безнаказанно и спокойно творилось совсем рядом зло, и я не мог его прекратить, не имел ни смелости, ни силы. Что мог сделать я, даже вооруженный, облеченный правами инспектора, против другого вооруженного человека, а может быть, даже двух-трех? Не мог же я в самом деле стрелять! Заставить подчиниться и повести за собой? Но ведь это только в кино браконьера опрокидывают приемами самбо, затыкают рот и ведут к леснику на веревочке. Оштрафовать? Ха-ха… Составить протокол? С собой были даже коричневые печатные бланки. Протокол! По закону он будет действительным, если браконьер пойман с поличным да еще в присутствии двух свидетелей. Ель, что ли, эту обломленную в свидетели взять? Ну, предположим, есть и свидетели… Что ему, браконьеру, за кара? В самом худшем случае штраф, какая-нибудь десятка, а то предупреждение, даже ружье навсегда отнимать нельзя. И конечно, он все это знает, иначе с чего бы так осмелеть. А глухари вымирают…
Присел на зеленую оттаявшую колодину. Внутри она иструхла, мягко прогибалась и крошилась, звездчатый мох опушил ее всю, из трухи росли прутья и елочки.
Работа лесника не показалась мне теперь ни идиллически привольной, ни заманчиво легкой, как тогда, когда пил чай, сидел в кресле и глядел на озеро. Вот и охраняй тут, попробуй… Впрочем, можно ведь ничего не замечать. Сторожишь-то неучтенную ценность. Да у лесника главная задача — лес. А дичь должен хранить егерь. Есть ли он здесь? Глухарем больше, глухарем меньше… Эка беда! Кто их считал? Так же и лес, и зверь, и рыба, и вообще все, что в газетах именуют — «зеленое богатство», «запасы дичи», «мягкое золото». Золото, золото… Настоящее золото хранят в банковских подвалах, в сейфах, за семью замками под надежной охраной, а это золото доступно всем, бери что хочешь, если ты нагл, потерял совесть и стыд. Лесник? Иной лесник знает лишь свой огород, картошку, огурчики. Весь он занят одним: вовремя наставить сена корове, выкормить телка, привезти дровишек добрым людям — благо лошадь казенная, чего ей зря харчиться. Где дро?вца — там и спасибо, поллитровочка, еще кое-что. А с браконьерами дело простое. Увидел? Ну ступай себе с богом. Лес велик. Глухарем больше, глухарем меньше. Не стало глухарей, и хлопот не стало… И сколько ведь помощников у такого лесника, помощников, на которых легко можно сослаться, — тут тебе и пожар, и вредитель-короед, и замор, и холодная весна, и «лиса либо рысь», которая «яйса выедает», — как мудро объяснил мне полное отсутствие дичи на своем участке один такой страж леса. Мужичок этот отличался редкой прямотой… «Ха, я ежели вижу, который с оружием, — и не подхожу. Бивали меня не одинова. А жись терять пока неохота. Дешево будет, за шестьдесят-то пять целковых. Жись отдавать». — И глядел усмешливо в косых житейских морщинах глазами.
Вот и я теперь такой же горе-лесник. Чем же лучше? Все-таки надо было как-нибудь помешать ему! Хоть бы второй глухарь уцелел. А что теперь делать? Бежать-разыскивать негодяя по следам? Стрелять три раза, как велел лесник? Ничего хорошего я не придумал и, посидев с полчаса, закинул ружье за спину, побрел к озеру уже знакомой тропой, где отпечатались на мокром снегу и земле рубчатые следы моих сапог.
После короткого утреннего проблеска снова все хмурилось. Ветер не утихал, снег летел. Озеро покрылось белыми строчками бегущих к берегу бурунов, я хотел выстрелить, но увидел вдалеке лодку и удержался. Лодка ныряла на валах, но шла быстро, как байдарка. Человек крест-накрест взмахивал двухперым веслом. Лесник (это был он) еще с лодки что-то кричал, за ветром и плеском волн я не мог разобрать. Он выпрыгнул в воду, поволок узкую плоскодонку к берегу и предстал передо мной мокрый, возбужденный, с каким-то неузнаваемо перекошенным лицом. И все оно — брови, глаза, губы — спрашивало.
— Санька! Это Санька! — быстро заговорил он, едва я рассказал, как было. — Он на лодке… Скорее… Скорее давайте… Вдоль берега… Может, еще… Или хоть лодку заберем. Вы плывите — я пешком. Плывите! — махнул он и в три прыжка скрылся в зарослях нарядно белеющей вербы.
Я поплыл, неумело выгребаясь двухперым веслом. Новая легкая лодка не слушалась, рыскала, захватывала воду. Двигался я, видимо, крайне медленно, злясь на себя, на эту норовистую посудину и на ветер со снегом, все время сносивший на прибрежную мель. Примерно через час завиднелась на песчаной косе сутулая фигура лесника. По одному тому, как он стоял, безразлично глядя в озеро, было ясно — никого не нашел.
— Нету! Наверно, он лодку в Истоке спрятал. А мы сюда… — с горечью сказал лесник, шумно побрел по воде и плюнул. — Ну неудача! Как черт ему доносит! Я туда — он сюда… Ведь думал сегодня пойти с вами… Посомневался… Вдруг на близь подастся… А-ах… ты, будь… ты!
Он сел на весельную скамью, взял у меня весло, подождал, пока я устроюсь на корме, и лодка пошла с легким упругим шелестом, рассекая волну наискось, — она знала своего хозяина.
— Удрал, ловок, — бормотал лесник. Напряженно работая веслом, он сидел ко мне спиной. И мне опять было совестно — вот он, горбатый, везет меня, здорового. В то же время было неудобно отстранить его — дать почувствовать наше неравенство, да слишком свеж был и мой опыт самостоятельного плавания вдоль берега. Ну как не справлюсь, опрокину лодку?
Ветер меж тем задувал сильнее, валы шли вровень с низкими бортами, и все казалось, следующий зальет нас без всякого усилия. Лесник греб быстро.
— В пряталки играем… — послышалось мне.
— Не боитесь? — угрюмо обронил я. — Такой пальнет, не оробеет.
— А-а, — донеслось из-за спины. — По мне уж стреляли.
— Как так?
— Не стоит рассказывать…
— Все-таки…
— Обыкновенно…
Он не оборачивался, лишь весло замедлило равномерный, размашистый ход.
— Расскажите, если нетрудно…
— Чего трудного… Осенью прошлой… Сижу с красками… Утро темное… бусенькое… Тучки похаживают. Каплет. По Истоку лист плывет… Пахнет листом везде… И осина на берегу. Красная, пунцовая… Девка на морозе… Пишу осину, забыл про все… Вдруг: бац! По-над шапкой-то: фить! Только кора с осины полетела. Не понял я. Встал. Слышу: хрустит далеко… Убежал кто-то. Не по себе мне стало… Хоть сам беги… Одумался, подошел к осине… В том месте… — где кора отлетела — острое торчит. Пошатал, вытащил. Пуля. Навылет шла… Не охотничья пуля, а с оболочкой… Из трехлинейки… Или напугать хотел. А скорее не попал… Винтовка? Есть у них… С колчаковщины… Опилки, обрезы всякие… Сперва хотел пулю в лесничество… Раздумал. Запишут. Ну акт… В милицию таскаться… То да се… Кто чего расследует?
Помолчал. Натужно работал веслом.
— Жизнь-то вся так идет… С рождения смерть нас пятнает… За спиной ходит. И все метит, куда убойнее… в сердце, в голову метит. А? Вот и крутишься… Жизнь-то чем не под пулями? Остыл я вроде.
Он говорил так, будто жил долго-долго, и я подумал: сколько же ему лет? Не то сорок, не то двадцать пять. Морщины, вдруг возникающие глубоко и резко, засечины по углам рта… Такие следы жизнь печатает на лицах сорокалетних. Белые черточки шрамов тоже не от розовой молодости. Шрам у левой брови приподнимал ее, кладя на худое долгое лицо выражение усталой рассеянности. С другой стороны, явная молодость проглядывала в ловком движении рук, в ясности взгляда и в голосе, не утратившем юношеские интонации. Лесник все больше нравился мне. С ним становилось легко, уверенно, безопасно, как с кем-то старшим, подобным учителю или брату-большаку.
— Сколько вам лет? — напрямик спросил я сгорбленную спину.
— Двадцать восемь… — был ответ.
— Так мало?
— Мало? Много… — отозвался он, сильнее нажал на весло.
Теперь нас мотало так, что я почувствовал дурноту. Озеро взбесилось. Пена летела через борта и нос. Заплескивало. Темная, словно бы дымная вдали равнина Щучьего вскипала беляками, колыхалась вверх и вниз.
— Много лет! — всерьез повторил лесник. Он повернулся на скамье, лицо у него было мокрое, разгоревшееся, шрам над бровью побелел, глаза блестели, фуражка съехала на затылок. Он стал грести наизворот, так же ловко и равномерно вращая весло.
— И так кажется — вечность живу. Может, вообще буду жить без конца…
Улыбнулся, вытер лицо рукавом, слегка подгребая, помогал править лодку поперек валов.
— Ведь я не помню своего начала. А кто помнит? Ни вы, ни я, никто. Не буду помнить и конца. Так? Есть мое я — живу… Говорите — «мало». Двадцать восемь. А что я сделал? Галлию не завоевал, теорию относительности до меня открыли… Так… Пушкин погиб в тридцать восемь. Лермонтов — в двадцать семь. Левитан — в тридцать девять… В сорок три — Гоголь… Понимаете? Я узнал совсем недавно: Гоголь — в сорок три! Я его старым считал. Но ведь они уже были в те годы Пушкиными, Левитанами, Гоголями. Высоко хватил, конечно.. Для примера, так… Ну-ка кто я такой, по-вашему, в свои двадцать восемь? Несчастный мазила? Неудачник? Инвалид на стариковской должности… Молчите? Так повелось — лесник, значит, борода, годы. И я вроде отшельника… Или, думаете, романтика? Робинзон Крузо со Щучьего? Двадцать восемь… А я еще сидел… Занятно? А? Да, да… За хулиганство…
Он положил весло поперек бортов. Лодку закачало. Начало поворачивать. Вода хлестнула через наветренный борт, залила настил. Я молчал, удивленный таким завершением, и смотрел, как грязная вода на дне лодки таскает клочки сена и сухие травинки. Пришло в голову, что сейчас самое время закурить. Пока я раскуривал мокрую сигарету, лодку уже повернуло и несло по ветру, встряхивая с гребня на гребень, ноги были уже в воде, и она прибывала с каждой волной.
Меж нами произошел, по-видимому, мысленный разговор, который оба хорошо понимали.
«Не спрашиваешь?» — блестели глаза лесника.
«Что спрашивать? Ну сидел… Не верю, чтоб ты за что-то очень подлое…»
«Не веришь?»
Весло плеснуло.
«Нет. Ты добрый парень, а попал как-нибудь по случаю…»
«Ну спасибо тебе… Хорошо, что ты не спросил».
— Греби! — сказал я. — Или давай весло.
Он повернулся на скамье, сильно и быстро поправил лодку и погнал ее упористыми, красивыми взмахами — откуда бралась сила в длинных, не крепких с виду руках.
Наконец лодка зашла за мыс, полны сделались тише. Мы причалили возле кордона. Почти тотчас лесник куда-то исчез, наказав поставить самовар. Я чувствовал сильную усталость и едва передвигал ноги. Умаяла другая полубессонная ночь и весь непривычный городскому, изнеженному удобствами жителю режим этих дней в лесу, на вешнем воздухе, от которого пьянеешь не хуже, чем от вина.
Лесник не возвращался долго, и потому я нехотя поел один, выпил чаю и прилег на узкую лесникову койку поверх стеганого красного одеяла. От одеяла пахло какой-то травой.
Я не разделся и не думал спать, потому что не люблю дневной сон с детских лет, всегда он кажется мне противоестественным, болезненным, и возникает угрызение совести: день на дворе, а спишь, как ночь спать будешь? И все-таки незаметно как я заснул.
Пробудился в мягкой фиолетовой тьме. С трудом сообразил, где я. И, приглядевшись, привстав, увидел, что лесник тоже спит на своей импровизированной постели из кресел. За стеной и окнами шумом шумел расходившийся ветер. Иногда он усиливался, переходил в ноющий свистящий звук. Брякало стекло, плохо вставленное в раму. И весь дом словно вздрагивал, сотрясался и поскрипывал, как корабль снастями. «Бууш… Бууш… Бууш…» — била в берег волна, и вдруг я понял неясный смысл слова «бушует». Что творилось сейчас в кромешной вьющейся тьме над волнами поднятого ветром озера… Как черны, без меры дики были обступившие озеро ельники, как страшны, наверное, светло-аспидные облака, что спустились к самым волнам, — и все смешалось: вихри снега, дождя и мрака. Я представил себя одного там, на лодке меж валов, увидел, как они зубасто, бело и злобно заглядывают, — и это светлое, мертвенное так жутко, — а лодка скачет, точно бешеный конь, проваливается в пучину и несется по ветру куда-то, медленно поворачиваясь, во мглу и дождь. Я вздрогнул.
— Погода-то! Что делается! — тихо сказал вдруг лесник. — Слышу: не спите?
— Не сплю. Думаю, как здесь живется…
— А-а… Не сразу и я привык. Привычка… Неизученное свойство человека. Ох, великое свойство! Иногда думаешь: много мы изучаем природу, общество… Химия, физика… Кибернетика всякая. А себя? Много ли знаем о себе? Кто мы? Зачем живем, рождаемся, умираем? Лист на дереве и тот имеет свое назначение… А человек не лист. И что такое привычка? Свойство нервной системы — скажете вы. Или качество? Одни привыкают — другие нет. Как сперва мне дико, страшно здесь было… Вспоминать не хочется. Горожанин я. В городе родился. И вдруг в лесу… С утра встану — ничего, радостно даже, а начнет к вечеру солнце клониться — такая тоска сердце давит, не приведи господи. К людям хочется. Суетишься, бегаешь туда-сюда, чтоб отвлечься немного. Не проходит. Жутко. Лес молчит. Вода молчит. Небо немое… равнодушное. И ты тут, червяк, ненужность какая-то. Ведь мы, художники, всё вообще привыкли очеловечивать, а глубже глянешь — что этому лесу до меня? Есть я, нет меня… Стоит он и веточкой не пошевелит. И ночью всякое. Шлепает по болотинам-то, в озере ухает, полощется. То обойдет избу кто-то. Туп… Туп… Туп… Кто? Совы стонут и другие голоса. Черт знает, откуда они, кто там кричит? Непогода разыграется, вот как теперь. И будто ты один на земле остался. Ноет, свистит за окошками. Темнота кругом… Лежу в поту, как отходящий. А-а… Соскочу. Свет зажгу. Книгу схвачу, читаю — самого трясет, зубы стукают. В кордон будто ломится кто, заглядывает в окна. Чуть с ума не сходил. Сколько раз клятву давал: До утра, только до утра. Дождусь и сбегу, пропади он пропадом, Балчуг этот… Сбегу… И уходил даже. На свету соберусь, дверь подпер и пошел. Отойду маленько, одумаюсь — и обратно. А раз до Илима убежал. Вернулся…
Лесник завозился. Сел. Черный силуэт заслонил окно.
— Знаете, не испытай я много — не выжил бы здесь. Иногда и беда добром обернется. Метался, метался так-то, а иногда раздумаюсь: что тебе надо, гад?! Рвешься отсюда… Ведь тут, если по-другому смотреть, только что не рай: воздух, вода, чистота, лес… Стал к лесу ближе прислоняться. Слушаю его, гляжу. Где какая птичка живет, зверек бегает… И страх этот дурацкий вроде бы отходить начал. Сперва бывало: дерево застонет — я за ружье. Косуля рявкнет — сердце так и оборвется. Ястреб закричит… А чего, спрашивается, боюсь? Нервы. Совсем веру в себя потерял… Случай помог… Да, может, неинтересно это все? Спать хотите?
— Рассказывайте! — попросил я. Он помолчал.
— Как-то в августе, в самом начале… Около ильина дня — это у меня от бабушки, я все посты, праздники знаю… Да и вообще как-то… Народное. Наше все… Русь. Русское. Забываем мы… а я люблю. Троица. Березки. Спасовы дни. А? Так вот, собралась тогда к ночи такая гроза — никогда не видывал и не увижу, наверное. Ураган! Тучи чернющие, аспидовые. Ветер поднялся ужасный. Лес как с ума сошел, гудит, ломается. Сучья летят. Озеро ревет. Как молоко кипит. Молнии полощут! Снопами сыплется, сияет бесперемеж. Сижу у стены, зажмурился, прижался, как кролик какой, а самого просто иголками колет. Вдруг запело, заскрежетало что-то диким голосом, окошки распахнулись! Выскочил без памяти. Кирпичи сыплются! Гляжу — полкрыши с кордона поехало. Встало на дыбы. У-у! Что творится! Ад! Ливень, ветер, темнота. И все мелькает синим-синим. Грома не слышу даже, оглох. Повернулось у меня в душе что-то, помутилось… Сорвал я рубаху, сапоги, все… Выбежал на берег: бух в озеро. И поплыл, куда, чего — не знаю. Захлестывает меня. Накрывает. Вал за валом. А я плыву, кричу, воду глотаю. Не знаю, сколько так было, — вдруг чувствую: не тону. Ничего… Приспособился к валам. Телом овладел. Обвык. Набежит вал — я под него, и опять вперед. И чувствую — сильнее я этого, сильнее ветра, воды, грома. А что мне было терять? Жизнь-то мою? И вот, может, подумаете, хвастает: переплыл ведь я озеро. Почувствовал — ноги за дно задевать вроде стали. Попробовал — верно. Встал. На берег вылез. Голый сижу. Трясет меня. А дождь прошел, молнии тише. Только вал сильно хлещет. Раскачалось. Думаю, что мне тут теперь делать? Не идти же голому берегом в обход… Отдохнул я малость, укрепился — и обратно. Насилу, насилу назад-то выбрался. По молниям плыл. Темнота… Осветит — вижу, в какой стороне Балчуг. Там больше полыхало. Выплыл. Лег на песок. Лежу. Стошнило меня, нахлебался все-таки, и смеюсь, и плачу. Дурак дураком. А потом встал, одежду мокрую собрал… И вот с того раза совсем я от страха вылечился. Совсем… Ночь за полночь стал везде ходить. Спать в лесу стал. Краски привез, за этюды взялся. И даже лес-то по-другому видеть начал. Бывало, в училище выезжали на практику писать на пленэр, на природе то есть, бродим с этюдниками, выбираем красивые местечки, чуть не деремся… Ах, это моя береза! Ах, сколько цвета… Ах, ах… Невдомек было, что в пейзаже главное. Красоту не глазами — сердцем понять надо, чувством, интуицией какой-то, что ли, — тогда и глаз увидит. Я ничего в лесу не выбираю. Пишу как есть, как дышу. Все тут хорошо: всякое дерево, куст, вода… Сумей понять, когда оно лучше откроется: летом или по осени, в пасмурный день или, скажем, на зорьке. Ведь и человек достигает наивысшей красоты, и цветок. Вот тут, по-моему, для искусства главное: сумей понять, увидеть, может быть, рассчитать даже. Это тонко. Это вам не пятна цветные искать. Можно, конечно, и пятном. Сейчас в живописи мода: лупи цветом сплеча, чтоб он орал, голосил, в глаза лез. Мажь краску пастозно, тюбиком пиши, пальцем, ладонью, под фреску катай! Петров-Водкин! Икона — картина. Водкин Рублеву подражал, а мы и Рублеву и Водкину. И получается оно: броско, ярко, останавливает. Души только нет. Чувства. Цвет все заслонил… И думаю — отойдут от этого… Скоро… Не лежкий фрукт — мода. В картине главное — душа… И цвет и рисунок — все должно открывать душу…
Поворочался, покашлял раздумчиво, огладил в темноте свою стриженую голову. Почудилось, что лесник даже улыбается чему-то грустно и мудро, про себя.
— Сверчок-то молчит. Чует непогоду — такая волшебная букашка, скажу вам. Хорошо с ним. Уютно. Эка что делается! Как бы опять крыша не поехала… Ветер-то!
Ветер сотрясал стены, давил в окна, пробивался в щели, и в комнате слышно было его дыхание.
— Как на корабле, — сказал лесник. — Сейчас бы выйти — звезды смотреть. Они так и прыгают. Несутся. Чудно… А хотите, расскажу, как сюда попал? Правда, история долгая. Рассказать? Только дайте-ка закурить… Закурю я…
Долго мял поскрипывающую сигарету, будто не решался начать или обдумывал. Чиркнул спичку — сломал. Снова раздраженно чиркнул по коробку, в темноте поблескивал фосфорный след. Прикурил. Огонек желто и трепетно осветил нос, забинтованное запястье, глаза. Спичка гасла, изгибалась, обожгла ему пальцы.
— …Голова кружится. Опьянел… Давно не курил… Я вам с самого детства? Ничего? Так вот, родился я в Тагиле, на Тальянке — слобода за прудом. Тогда окраина была. Из ранних дней помню мало. Небо, поляна, двор, отец. Матери не знаю — говорили, умерла, когда мне было три года. Голубятня стояла у нас на дворе. Отец у меня железнодорожник был, машинист на маневровом паровозе. И голубей любил… Ну а где он — я тоже. Все, бывало, на голубятне торчу. Она хорошая была, бревенчатая, под тесовой крышей, внизу амбар. Вот я и лазаю день до вечера по крыше, по коньку. С небом сроднился. На крыше мох подушечками растет, зеленый, губчатый, голуби стонут, солнышко в туче играет, ветерок. Всю улицу тебе сверху видно. Тополя, дворы… И небо-то кругом — к северу синее, к югу светлее… Один раз заигрался я так, задумался, что ли, оступился и упал. Не просто упал на землю, а на березовые кругляши — напилены были у голубятни дрова да не расколоты…
Падал — сейчас помню: опрокинулось небо, повернулись тополя… Ударился вроде бы небольно. Тяну, тяну в себя воздух, выдохнуть не могу. Темно… Очнулся. Голова болит. Руками пошевелить не могу. Отнялись. Одни ноги действуют, двигаются кое-как, через боль. Позвоночник повредил… Лежал долго, больше года, в гипсе, в корсете и так. Отлежался все-таки. Руки ожили. Сперва только пальцы. Выписали. И начало у меня это расти. Гнет и гнет. Сначала никак привыкнуть не мог, будто камень носил над лопаткой. Потом освоился. Самое трудное было к прозвищу привыкать. Раньше я просто Ленька был, Леонидко — стал Ленька-горбатый. Крепче фамилии приросло. Дрался… Ревел… А-а…
За одной бедой — другая. Отец в крушение попал. Остался я с одной бабкой. А она после отца и год не прожила, взяли в детдом. Было там хорошо, кормили, учили… Воспитатели хорошие были. И вот один учитель — по черчению он был, художник из неудачников, так сейчас понимаю, — заметил, что я рисовать люблю. Стал приглядываться, работу давать. Потом стал отдельно учить, поправлять. Раньше-то я стенгазеты оформлял, графики разные, альбомы. Дело простое — нарисовал башню со звездой, ленты, орден Победы, в Новый год — ель со снегом, Деда Мороза, хорошо вроде получалось, нравилось, ну а он меня по-настоящему в живопись носом ткнул. В лес водил, этюды писали, краски дарил…
…Бывало, подведет к окошку. Смотрит, смотрит. Сопит — сопел как-то он всегда. Тронет за плечо: «Ленька, закат какой?!» И верно, я уж понял. Тишина. Небо в гривах. Золотом отсвечивает… А под гривами-то розовым кажется. Розовым таким, широким, северным, что ли… Колокольни на этом розовом… Блестят сказочно. И стрижи вьются, мелькают. Тишина… тишина… Гляжу во все глаза. Хочется на бумагу эту тишину. Ух как хочется! А ведь просто закат. Сколько их? Все разные… Или идем где-нибудь лесом, деревней. Остановится: «Ленька, баня-то?!» А банька стоит кособокая, в крапиве утонула, с крыши доски моховые торчат. Цветы малиновые. Глушь, глушь… одичание… Диву даешься! Иной раз не вижу, не могу понять — сердится, фыркает, ворчит: «Глаза зачем?» Такой был золото-человек, Иван Степаныч. Пил только очень. Спирт, сырец всякий, лак какой-то перегонял. Как свекла красный иногда ходит, молчит, сопит. К пьяному не лезь! Тогда я его осуждал, сердился, боялся. Теперь понимать начал, с чего он себя доводил. Видеть-то он видел, а вот изобразить — школы ли, таланта ли не хватало… Бог весть. Да и кому бы его пейзажи… С пьянки и умер. Выпил что-то такое… ослеп… А-а…
…Из детдома я в училище. Поступил-то легко. Учусь. С такой охотой взялся! Кончу, мир удивлю! Там все так думают… Каждый себе талант, хоть три четверти потом в заводских художниках рекламы малюют. Наверное, не было меня прилежнее: надо натюрморт в задание написать — я три делал, композициями, набросками все блокноты исчеркал, на хлебе с водой жил — деньги на краски… В пример меня ставили. Только через некоторое время стали преподаватели как-то странно посматривать, да и ребята тоже. Соберутся у моего этюда, хмыкают. Не возьму в толк, что им надо… Потом старичок один, Павел Никитич, — перспективу у нас преподавал — говорит: «Ты, парень, не дальтоник ли?» — «Чего?!» — «Не дальтоник ли, говорю? Чтой-то ты вместо зеленого красным луг пишешь… Ишь, импрессионист какой?! — Тогда «импрессионист» вроде ругательства было. — И тут цвета запутал». — Тычет мне в картон. А я ничего не вижу — все правильно вроде. На ребят гляжу. Они кивают. Он прав… Как?! Тогда он сует мне в нос тюбики, на одном «Тиоиндиго розовый», на другом «Кобальт зеленый светлый». Мазнул две полосы: «Чуешь разницу?» А я разницу вижу не в цвете, а просто в оттенке, в тоне. Цвет-то вроде бы одинаковый…
На комиссию послали. И точно: дальтонизм — путаю в оттенках красный с зеленым, зеленый с серым, с розовым. Для живописца — гибель… У живописца цветоощущение, как у волка слух, должно быть, как вкус у дегустатора. Были, правда, случаи, некоторые французы работали, несмотря на дальтонизм, — учеников с правильным цветоощущением держали. А я? Можно бы, конечно, графиком стать — не люблю графику… Живопись люблю, краски… Будто второй раз я упал тогда. Два дня на койке лежал. Ни есть, ни спать не мог. Товарищи ободряют, жалеют, советуют. Да что они? Писать за меня будут? Чужую беду руками разведу…
Он потушил сигарету в пальцах, бросил к печи, глубоко вздохнул. Думал. Поскрипывал дом под напором ветра, шумело озеро. Словно бы немного посветлело, потому что теперь я видел согбенный силуэт лесника, его опущенную голову и широкие плечи. Снова раздался его голос, звучал печальнее, раздумчивее:
— И ко всему к этому… Девочка у нас в улице жила. Играли, на качелях качались. Потом как-то раздружились, пока в детдоме был. И вот встречаю ее в Первое мая, после демонстрации — глаза протираю: красавица! Откуда что, была-то замухрышка, Буратино какое-то, а тут и ноги, и косы, и все будто не ее. Узнал с трудом… Как говорится — и ум и образование. Встретились — обрадовались. И еще встречаться стали. Месяц, наверное, прошел. Самый мой счастливый месяц! Все к солнцу повернулось. Такая радость. Проснусь — глаза открыть боюсь. А ну как сон это? Что тогда… А только обрадовался — погасло. Заметил, что моя Оля суше как-то стала. Ходить со мной ходит, как раньше, а чаще помалкивает или хмурится. Провожать себя к дому запретила. Раз едем с ней вечером в трамвае из кино, стою я, задумался, тяготит меня какой-то страх, предчувствие, что ли. Гляжу в стекло, рожу свою темную вижу — и вижу случайно, смотрит Оля на мою спину, а сама… Как бы сказать… Не испуганная, нет… А вот будто узнала, что ей к зубному врачу идти. Не стал ее встречать. Видел, конечно. Пройду мимо, будто не заметил, и она так же. Тут меня совсем довело. Стал на все злой. Ужас… Понять надо. Дни идут. Занятия не клеятся. Писать не могу. Все чудится — не тот цвет беру. Будто параличом разбило. Возьму кисть — рука трясется. На занятия, куда ни шло, хожу по инерции. А в свободные дни, в воскресенья, такая тоска — горлу тесно. Бредешь в город. Толпы по бульварам… Все вроде веселые, счастливые. И ты тут же, как пария, как шут гороховый. И смотрят, смотрят, смотрят! Кто с жалостью, кто с любопытством. Иные, правда, словно не замечают, боятся взглядом даже обидеть. Эти лучшие. А мне уже все равно — и жалость эта, и любопытство — понимаю, не виноваты люди, что смотрят на меня. Приду в общежитие, брякнусь на койку. Зареветь бы — слез нет. Поможет ли? Кабы помогло… Боялся: с ума сходить начну…
…Уж извиняйте. Первый раз так… Разоткровенничался про свою житуху… И вот стал я, понимаете, пить. Первый раз выпил, хорошо вроде, спокойно, весело. Там и еще, еще. Были бы деньги… Понемногу до шпаны докатился. Разные блатные мальчики. Вечера у гастрономов. И я чего-то с ними. Думал, тут меня поймут. Болтаю, подлаживаюсь под них, пью. А-а… Девочки были… Жалели… Сейчас от той жалости гадостно. Напьюсь, буянить начну. Изобью кого-нибудь. Меня изобьют. Так жил… А в заключение попал совсем странно. Пошел я в баню в субботу. Иду это, вывернулся за угол, вижу, лошадь из ворот выезжает. В это время вылетает из-за поворота «Волга». Лошадь-то в оглоблях, попятиться не смогла. Машина дальше — а кобылка головой трясет, вся морда разбита, зубы вылетели. Трясет она, бедная, головой, смотрит слезами. Кровь с морды шнурами льет. А мужичонко-то, возчик, схватил кнут да по лошади-то. Хьяк! Хьяк! По глазам, по бокам…
Что-то сделалось со мной — свету вроде не вижу. Бывает у меня такое. Бросил бельишко. И так я того возчика избил — чуть не до смерти. Толпа отобрала. В милицию меня. Потом суд за хулиганство. Тем более и раньше приводы были. Два года… Отбывал в исправительной колонии в области. Срок не весь отбыл. Амнистия вышла. В училище не пошел. Приехал в город. А на работу не берут. Чтоб на работу приняли, штамп надо о прописке, трудовую книжку, у меня же одна справка. Чтоб прописали — квартиру надо. К кому ни толкнешься: «Откуда?» Что я скажу, стриженый-бритый? «Не сдаем». И дверь скорее на запор. Хорошо — весна была. Кончились у меня все деньги. Дальше что? Пошел в управление милиции. Так и так, говорю. Или снова меня в колонию, или работу давайте. Начальник один, майор, долго меня оглядывал, велел зайти через день. Захожу. Спрашивает:
— Хочешь лесником на кордон?
— Хочу. — Я тогда не то что на кордон, в Антарктиду бы поехал. Хотелось одному побыть, в себе разобраться. К тому же думал, писать здесь буду, один, без указчиков. Благодарен я этому майору и сейчас.
Написал он записку, позвонил, и пошел я устраиваться. Перед отъездом Олю встретил. С мужем. Дородная стала. Еще красивее. Узнала, покраснела. Отошли в сторонку. Молчим. «Ты, говорят, в тюрьме был?» — «Был, — отвечаю, — за хулиганку». — «Как же ты до такой жизни докатился?» — «Докатился, — говорю, — докатился…» Вижу, у нее вроде слезы. А муж стоит, притоптывает, кисло смотрит… Вот я и здесь…
Лесник снова лег, но не спал, кашлял, поворачивался с боку на бок так, что стонали пружины кресел. Его неожиданная исповедь не удивила меня. Может быть, и заранее угадывал ее. Не в первый раз попадались люди вроде бы совсем обычные, пресные, однако перенесшие черт знает что: и концлагерь, и плен, и многолетние лишения. А лесник и с виду был не таков. Сказал бы что-то еще… Объяснил свое сегодняшнее. Куда идет? К чему стремится?? Или навсегда решился жить так: писать осинки и закаты, отводить делянки, отбирать ружья у деревенских парней, постепенно терять свое подлинное, обращаясь в конце концов в заурядного Иван Иваныча, любителя бутылки и баньки с березовым веником по субботам. Перекипит, осядет с годами задор, усталость отяготит и без того согнутую спину — и вот еще один неудачник, вздыхающий на завалинке: «Жизнь-то мимо пробежала… Не видел жизни…» Или он испытывает себя, калит одиночеством, должно быть, и так немалую волю?
Было совестно тревожить его, хотя и слышалось — лесник не спал. Кто его знает? Может, кается уже, что раскрылся перед незнакомцем. Часто-часто за непрошеным откровением приходит и злость на себя и стыд. А все-таки… Невыносимо, наверное, жить одному на этой дикой островине среди болот… «Вот где нужен человек человеку, — думал я, глядя в сумрачные окна. — Знать бы, что он есть — этот человек, где-то тут, поблизости, спит, дышит, может проснуться, встать, поговорить, вместе испытать страх и тревогу, вместе успокоиться. Как много-много, когда близко есть человек! И скорее не мне — другому, может быть, некой женщине, была лесникова исповедь, накопленная годами вынужденного молчания и тоски.
Прошло не менее получаса, пока лесник заговорил:
— Понимаете, люблю я все живое, все-все на земле! Даже вот филина люблю, каждое его перо, глаза, когти… Чудо ведь, чудо лесное! Дремучесть какая! И жизнь у меня счастливая. С тех пор, как со страхом расстался… Живу и жду… Каждый день жду. С зорьки дотемна. Что-то день принесет? Чем обрадует, опечалит… По весне жду дождика… Застучит в окно — будто гость пришел. Бегу глядеть, мокнуть. Выскочишь на крыльцо — тучи какие теплые, раздольные, цвет какой! Горы в тумане, в дожде. Ветерком дышит. Пасмурно, темно. Всякая букашка оттаяла. Кулик свищет. Косачи урчат, лягушки лают. Весна… А летом? Гляньте-ка, что у меня тут летом! Выводки пищат, каждая птичка у своего гнезда возится. Глухарка в островине поселилась. Мимо гнезда пройду — не слетает. Потом видел: ходит в кустах, кокает взъерошенная такая рыжуха — громадина, красавица черноглазая. А глухарята за ней по траве пересыпаются, желтенькие, пестрые… Лилиями все озеро зарастет, утром они открываются… Волшебство! Вода — арбуз разрезанный. Свежесть какая! Солнце не встало. Восток полыхает и алым и синим. Золотым горит. Рыба ходит. Круги везде. Мошкара толчется, жучки играют. Сидишь в лодке-то во всей этой благодати, бьешь комаров и молишься, даром что неверующий. Господи, думаешь, хорошо-то как! Ельник на том берегу — чистый ультрамарин. Березы здесь — голубые. Стекла избы огнем оранжевым играют. И трепещется душа. Обнял бы землю, целовал, ласкал. До чего хорошая, родная, славная. Как на тебе жить хорошо…
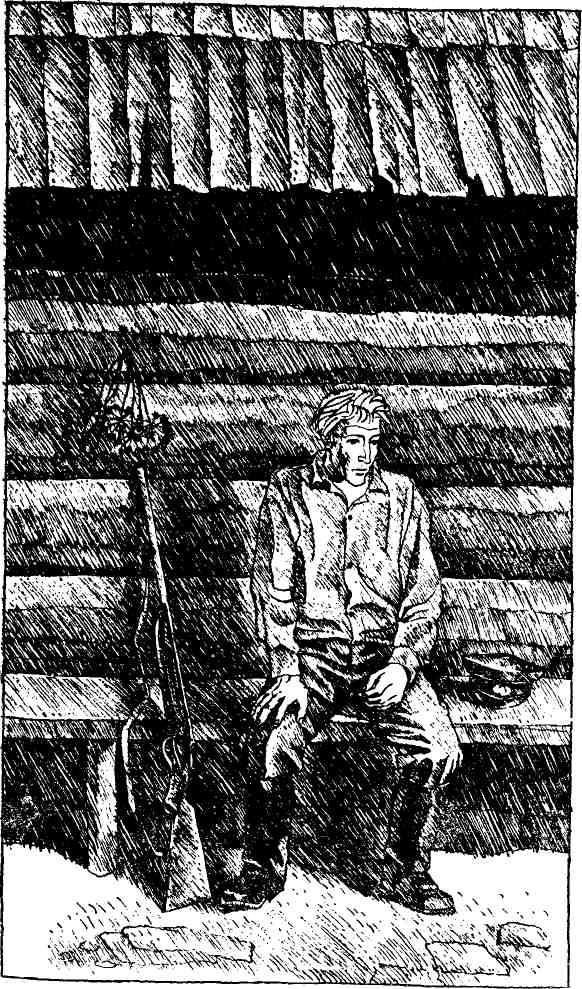
Приподнялся. Сел. Продолжал с какой-то радостно-тоскливой нотой:
— А осень-то забыл? Осенью лес!.. Одни осины — сердце ломит!! Где же такую красоту захватить, чем остановить? Сюда повернешься — хорошо, сюда — еще краше, лучше. Сколько всего на земле, подумаешь, великого, красивого: и леса, и деревни, и девчонки, и океаны… Подумаешь, зачем родился на короткую жизнь? Жизнь-то у нас слишком малая. Глупо… Да ту губим бессовестно — прокуриваем, пропиваем, убиваем себя… Не в том дело, конечно, чтоб дольше прожить, а в том, что завязаны глаза на красоту: глядеть глядим — видеть не видим. Как слепые, ходим мимо красоты. А хоть и видишь… Вот сижу однажды за этюдом осенью. Ветреный день. Шумит все, шумит… Солнце сквозь тучки плачется. Небо в синь… Тихая такая синь, грустная. Жаворонки вверху отлетные «юр… юр…». И береза по ветру шумит, переливается, будто золотыми слезами… Летит с нее золото, летит. А я не могу ее краской взять. Не могу, и все тут! Там мазок, тут мазок — там хвачу, тут хвачу… Откинусь… Нет. Не получилось! Не поет этюд, как надо бы петь, чтоб все в нем было: грусть эта небесная, холодок… ветер…
А первый-то снег! Да удайся он мне! Напиши-ка я хоть огородишко как есть: прясло в снегу, татарник, щеглишек на нем… Плачу. Плачу другой раз! Просто сижу реву. Почему не далось в полную силу цветом владеть? Поч-чему?! А? Я бы… Помните, Клод у Золя писал женщину — не мог остановиться. И понимаю, женщина — природа, та же земля…
Ну, давайте-ка спать, наговорил я тут, наболтал, — вдруг конфузливо сказал Леонид, быстро лег и умолк.
А я еще долго не засыпал. Сон не шел. Мешал непривычный шум озера и та мгла, которая стояла в горнице, никак не похожая на городскую, плотная и враждебная мгла, которой самое точное название — мрак. Будто навечно одела ночь землю, и этот мрак никогда не рассеется, не придет рассвет. Я раздумался о земле. Вдруг представилась она перенаселенной, задыхающейся от угарного газа, с отравленными реками, зараженным океаном и вырубленными лесами. Я увидел ее сплошь распаханной до последней ямы, окультуренной так, что само слово «природа» непонятно живущим. Стало страшно и душно, будто все это уже случилось… А где же на той земле вдовый запах осенней полыни, опушки с вольно разбежавшимися осинками, покосы, родниковые речки, чмоканье соловья в черемухах; и добрые старые дубы — вековая память и печаль, — от одного взгляда на которые дрожит и трепещет русское сердце; где степь с тягучими звонами жаворонков, их россыпями и переливами в солнечном небесном зное, бесконечно величавая равнинушка, глина оврагов, свист сусликов, шорох трав и ленивый полет орлов; где спокойные реки под ночным закатным заревом, когда оно отражается в них вместе с тучами, звездами, пароходными огоньками, бакенами, ночными туманами, всем своим матовым, синим, лиловым и розовым переливом, всей тайной и глубиной… Однажды я видел такую реку. Ночной поезд шел бесконечным мостом через Волгу, и под ним в туманах, былинной седине и мгле лежала вечная река. В ней было столько ровного спокойствия, бесконечной наполненности, простора и тишины, что я подумал — она как Русь, весь русский характер в ней, и не будь ее на Руси — у нас не было бы Пушкина, не родился бы Толстой, не было бы, наверное, ничего, великого, чем мы горды до гроба, — разве не связаны с ней неразрывно те имена, что всегда живут в нас…
Долго грезились мне еще какие-то леса, облака, березняки, дожди, порывы ветра в полях, какие-то корабли, волны, острова, берега…
* * *
Проснулись под утро. Вышли поспешно. На крыльце, в огороде и на берегу — везде лежал снег, и оттого было светлее, чем в прошлую ночь, пахло снегом, остуженной ночной землей. Этот запах был мягкий, растерянный, чудилось в нем близкое вольное тепло. Ветер то упадал, то задувал отчаянно, и тогда впереди в лесу что-то крякало, охало, стонало. Озеро бушевало с протяжным шумом. Я оглядывался на этот шум. И все старался как будто его понять.
— Стихнет к утру, — долетел голос лесника, шагавшего с фонарем впереди. — Ветер с перерывами пошел… Сверчок заскрипел… Слыхали сверчка? Тепло будет.
Он зашагал еще увереннее и так скоро, что я едва поспевал по ночному болоту, спотыкался, проваливался меж кочек, и тогда под сапогами вздыхало и чавкало, и оставались сзади черные ямы-следы. Припорошенное снегом болото до самого леса было мрачно-светлым, зато небо теперь нависало темной пучиной, и лес стоял впереди как угольный. Редко в прогалах обозначалась звезда, обозначалась и скрывалась боязливо. Ветер сильно подпирал спину, и все глуше, тише становился шум озера, пока совсем не смолк.
— Хорошо… Такая погода. Не пойдет Санька через озеро… Побоится. Сюда кинется… Говорили мне на станции — грозился всех глухарей выбить. Назло… Мне, значит… Прошлый год, весной, я у него ружье отобрал — косулю стельную он убил… по насту загнал. Штраф заплатил. Только зря… Вернули ему ружье в лесничестве. Доверие, мол, к человеку нужно. Вот оно, доверие… Доверяй такому. Сами видели, чем оборачивается. Доверие… Вот, скажем, волку можно… — и он еще что-то говорил там, впереди, но ветер уносил слова, и было непонятно.
Мы вошли в шумную лесную мглу. Лесник нырял где-то впереди, искал тропу. Он нашел ее быстро, и мы двинулись по ее извилистому узкому лотку, слегка присыпанному ночным снежком. В лесу снегу было меньше, стояла неясная морочь, на далях слитая в неразличимую тьму. Но чем больше вглядывался я в нее, тем она была цветнее, проступал то сизый, то сиреневатый, то фиолетово-синий цвет. Тропа пошла березовым лесом, призрачно-белым, и стало светлее, но все еще ничего невозможно было разглядеть из-за хлестких веток, которые неожиданно и больно стегали по лицу.
Я шел, выставив вперед ладони, зажмуривая и открывая глаза, и вдруг наткнулся на спину лесника, смутился. Он стоял, потушив фонарь, и слушал. В стороне явственно топало, шелестело…
— Лоси! — Он опять включил фонарь и обернулся.
— Браконьеры?
— Не-ет… — лесник еще послушал. — Лоси… Сжили мы их. Их тропа… Я их знаю давно. Пара. Возле Балчуга как привязанные. Бык старый, лет десяти будет. Корова молодая… Трехлетка, не больше. Узкие копыта. Прошлый год яловая была. Опять ходят вместе. Берегу их… Сено на зиму подкашиваю в болотинах. Рогач-то на меня бросался осенью. В сентябре… Самый гон. Идет бык по просеке, ревет страшно. Я не поберегся, вышел — думал: побежит… А он фыркнул, нагнул рога — как двинет ко мне… Еле я увернулся. Стрелять пришлось — тогда отстал. Зверина… Шерсть на загривке дыбом, глаза горят, топочет ножищами, рогами трясет, пугает. — В голосе лесника слышалось довольное уважение.
Еще через полчаса, когда небо уже начало томиться, мы вышли на длинную прогалину — не то елань, не то покос, кругом в черном молчаливом ельнике. За ельником белело. Близко булькала речка. И мы заслушались ее холодным наговором, переливом. Буль-бли, буль-бли, буль-були-бли, — доносилось со спокойными ровными перемежками.
— Ту-ут! — шепотом протянул лесник. Фонарь он давно погасил и теперь осматривался, слушал — даже фуражку снял зачем-то, бесшумно переступал по сырому снежку. — Рано. Пока гости не подошли, затаимся.
Он надел фуражку. Мы сошли с тропы в еловое колючее мелколесье. Елочки потревоженно роптали, хлестали упругими ветками.
— Посидим, колодина вот…
Смели снег, присели на толстый сырой ствол. Невдалеке, в кромке поляны, что-то завозилось, раздалось скрипучее бормотание.
— Глухарь! — дохнул в ухо лесник. — Первое время, не поверите, я даже боялся их, черт знает?.. Древен… Звуки эти. Чудо. В лесу так… Сильно лес на душу действует…
Понизил голос:
— Весной особенно… Сидишь где-нибудь на сече… Вечер. Солнышко садится. Птички поют. Вершинки сквозят… Жуки-букашки разные на закат подымаются. Кто они? Думаешь: «Разная у них своя судьба, живут, пару себе ищут, летят куда-то…» Так-то одиноко станет. Думаешь: «Что я тут сижу… В город бы… Жениться. Жить как все… Дети…» А вспомню взгляды любопытные, сожалеющие… Здесь-то на меня так никто не глядит. Здоровым себя чувствую, обыкновенным, что ли. А? Правда… Вот, говорят — слепые сон любят. Видят во сне. Так и я. Одумаюсь — душа отойдет. Ничего… А как вы думаете, может, я дальтонизм свой осилю? Смотрели работы… Как там? Цвета правильные?
Что я мог сказать? И он тотчас понял.
— Стойте! Не надо. Сам знаю… А-а… Если б осилить… Если бы… Замечаю, когда вглядываюсь резко и еще если в сумерках, вроде правильно вижу все тона. Табличку для сверки написал. Ухитряюсь. Глаза колет. Осенью, бывает, до того допишусь, слеза идет… Я в город вернусь, когда силу почувствую. Такую силу, чтоб написать картину. Весна, скажем… Или снег… И чтоб всякий перед картиной этой, как перед весной, — шапку вниз — стоял, самый равнодушный… Чтоб задумался, оглянулся: «Как живу? Что вижу?» А? Понимаете? Ведь я знаю, что вы обо мне подумали. Знаю — не обижайтесь. Иногда, как провидец какой, чувствую…
«Эх ты… — с досадой подумал я, — может, и правда ничего от тебя не скроешь…»
— Вы подумали, — продолжал лесник, — дурит парень, в пустынника играет… Может, подумали — помочь надо выбраться отсюда, то… се… И живопись мою вы невысоко поставили, хоть и понравилось, видел… Ну не отрицайте, зачем… Невысоко… Вы подумали — все-таки пейзажи, цветочки, листочки!.. Да нет же… Я вас не хочу обижать, может, правда, не так… А я сейчас замысел свой расскажу. Ишь, мол, как! Хватил! Замысел!
Я наконец понял его, но сказал, что у замыслов, открытых другому, не бывает удачи. Лесник помотал головой.
— Пустое! Что там — не бывает! Я в приметы не верю. От себя все. Вот мой замысел, слушайте… Двенадцать картин. Двенадцать! Это на всю жизнь. До конца.
— Почему?
— Больше не надо. Эти бы успеть. Одна тема…
— А почему все-таки?
— Год. Понимаете? Год. Человеческая жизнь в картинах. Жизнь вообще… Это приблизительно. Год. Картины-символы. Может быть, аллегория, экспрессия… И начал бы с марта… Потому что весна должна открывать год. Март. Рождение. Вот как я его вижу. Полотно огромное, чтоб било светом! Солнце не пишут, только дети рисуют, а я напишу! Белый раскаленный круг. Белый! Краски бессильны… Краски все в белом. И только где-нибудь блик, чтобы слепило, сияло. Лучи кадмием, пронзительнее, до звона, и снег… Какой снег! Голубой, сиреневый, синий, фиолетовый. Такой, как только в марте, утром, на крышах… Март… Так задумано. Это в одной манере. А вот апрель. Здесь жанр — пейзаж. Сырые поля. Дорога. Снег и вода. Подростки. Мальчик и девочка. Идут, опустив головы. Дальше?
Я кивнул.
— Май! Натюрморт. Черемуха и подснежники. Я эти подснежники уже писал — кисти ломались. И черемуху… А надо — чтоб пело, чтоб увидел и понял: весна, любовь, ожидание чего-то затаенного, может быть, и печаль. Я бы май пасмурным написал, с холодом… И все-таки май… Июнь теперь! Девушка. Обнаженная, загорелая, цветущая… Чтоб было в ней: зной, молодость, свет! Чтоб на одни зубы взглянул — засмеялся! Смеется она, смеется, закинула руки. Жизнь молодая — как я ее вижу! Вижу, — понизил он голос почти до глухого шепота. — А июль — это портрет. Мужское лицо. Человек склонился над столом. И работает, работает. Главное — мысль и труд… Поняли? Август. Женщина. Может быть, даже отягощенная. Женщина на ржаном поле. Фон горячий до золотого. Охрой. Как на древних иконах умели… Охрой. Рожь и женщина…
Он увлекся и, уже держа меня за рукав, весь ушедший в воспоминания и картины, говорил:
— Наверное, еще не все… Конечно, не все… Только первое… Надо думать, искать. Сентябрь никак не дается. Или натюрморт? Корзина с грибами, посох. Все на посохе построить? А? Ух трудно. А здорово бы на одном посохе, на палке всю жизнь показать, всего человека. Октябрь — пока одна заря — красная, красная. Переливы красного, вишневого, багряного. Еще не нашел совсем, а чувствую, основное — заря… Ноябрь — это натюрморт. Большой. С окном. Там снег. Снег как воспоминание. Или не так? Может быть, стол, чашка, пенсионная книжка. С деньгами. Нет. Сомневаюсь… Грубо… Тоньше все надо, тоньше… — Он умолк.
— Что же дальше-то?
— Надо ли дальше?
— Какой вы? Раз начали — досказывайте.
— Хотел, а сейчас что-то испугался. Вдруг все не так? Да и словами не скажешь. Надо увидеть, представить… Ноябрь… Снег идет… Нет, надо так, как сначала.
— А декабрь?
— Декабрь… Это старик. Задумавшийся старик… Мудрый, мудрый. Лицо вижу. Может быть, он свою молодость вспоминает. Может быть, вспомнил жену… Январь — это грустно. Жанр. Большая картина. Зима. Вьюга. Лежит лошадь и занесенный снегом боец. Убит. А рука поднята — в ней шашка. Так застыла. Поднята шашка. Ну и февраль. Это напоследок. На старость. На коленях писать буду. Очень просто, а понадобится вся сила. Мальчик. Задумчивый мальчик. Глаза. Стоит и смотрит. Вот картины… Я начал уже… Вам не показал. Никому не покажу… Пока не по… Пока не почу… Что? Что это? Слышите? Идет! — Он привстал, медленно распрямился. Тишина рассвета была обложная, если б не речка… Вот и я услышал Шелест.
— Идет!
И тут же глухарь, сидевший где-то близко, в елях, щелкнул первый раз «тэк…» Светлело. Голубое, зеленое, оранжевое стало раскрываться в тучах над ельником, будто расширялась там во все небо невиданная радуга. Пробежала вершинами, сник и упал в глубине последний ночной ветер. Ночным голосом простонала за ним надломленная лесина. А глухарь уже скрежетал своим жарким задыхающимся шепотом. Вот издал странный кашляющий звук, покрыл его костяным щелканьем, и снова тот же трясущийся шепот.
Дважды прошумело слева.
— Скачет! — пробормотал лесник, весь собираясь в ком.
— Нате! — вдруг сунул мне в руки свою «ижевку», полез из елок.
Глухарь токовал. Шорох приближался. Я встал на колоду, всматривался в синеву меж стволами, пытался уловить движение и наконец заметил. Темное двигалось наискосок в направлении глухариной песни. Двигалось и пряталось, замирало. И совсем бесшумно, короткими перебежками мелькал лесник. Все походило на какую-то хищную игру. Вот темное встало за дерево. Вот мелькнуло под песню. Раз-два-три — перескочил и лесник. Снова темное двинулось. Теперь я не видел ни незнакомца, ни лесника — оба скрылись в подлеске у опушки. Держа в обеих руках по ружью, не знал, что делать.
— Стой! — грянул голос лесника, неожиданно звонкий и грозный.
Мгновение было тихо, потом хлопанье большой улетающей птицы и еще одной, и голоса, спорившие быстро и хрипло.
— Уйди, сука…
— Сдавай ружье!
— Не подходи… Не подходи!
— Сда-ва-ай!
— Уйди с добра…
— …
— Убью! Ты…
— …
За деревьями что-то происходило. Я слышал возню, удары, брань и хрип борющихся людей. И вдруг жутко, оглушительно лопнуло там, хлестнуло по веткам. Не помня себя, запинаясь, я закричал и побежал туда, выскочил на прогалину и увидел лесника с поднятым ружьем, а рядом пригнутого, оскаленного по-волчьи, взъерошенного и страшного, с руками до земли.
Увидев меня, человек растерялся, выпрямился, тяжело дышал, искал глазами сбитую шапку. Это был он, вчерашний лобастый незнакомец, я узнал его сразу, даже в рассветных зыбких сумерках.
— Не имеешь права… Я не стрелял ищо… В суд подам… — бормотал он, подбирая кепку, отходя.
Лесник молчал, дышал загнанно, вертел ружье.
— Отдай, слышь? Боле не приду…
— Иди себе…
— Не отдашь?
— В озеро брошу!
— Не имеешь прав. В живот пнул! К следователю заявлю…
— …
— Отдай ружье. Хуже тебе будет!
— Проваливай, — лесник открыл ружье, достал и бросил в снег патроны.
— Не отдашь?!
— Иди себе…
— Ну погоди, погоди, с-сука… Я т-тебя… М-мы тебе… — лобастый дернул кепку за козырек, натягивая ее глубоко на уши, быстро пошел прочь.
— Эй! Стой! — белея лицом, загремел лесник. — Видишь? — он поднял ружье ложей вверх. — Вот! Вот! Вот!
С этими словами он изо всей силы хватил «тулкой» о ближнюю березу. Раз, два, три… Хрястнула шейка, отлетело цевье, стволы жалобно трынкнули и разъехались.
— …Вот так и живем, — сказал он, когда я подписал канцелярский бланк протокола. — Спасибо, вы подгодились… Одному бы… Он свои права знает. А теперь пусть поохотится, пускай… В суд подаст? Не посмеет! А-а… Хрен с ним, пусть подает. Может, вы подтвердите, что не с добра он ружье отдал?
Первый раз я увидел, как лесник смеется. Некрасиво он смеялся, как-то непривычно и точно через силу.
Связал искалеченное ружье погонным ремнем, принял от меня свою одностволку, потоптался, оглядывая поляну. Я прислушался. Вдали, у речки, токовал глухарь.
Мы вышли на тропу, а лесник все улыбался, дергал головой и вообще был донельзя оживлен.
— Провожу до трассы, — говорил он, шагая рядом, отводя ветки свободной рукой. Глядел по сторонам… — Заказник бы здесь какой ни на есть… Лет на двадцать бы, а? А то заповедник… Ведь лес-то! Липы какие есть! Не поверите. Лет до четыреста! Пчелы гнездятся. Где уж теперь дикая пчела? С Древней Руси ее зорили, а тут есть. А ели! Вот она какая выросла. Матушка-боярыня. Хвоя-то, глядите, как кудрявится. Эх, лес… Лес… Каждый выстрел меня колет. Такой уж я. Не могу выстрела слышать, и все… Осенью, в сезон, ходят палят. Не запретишь. Палят — я считаю. Раз отвесил! «Это убил!» — думаю. Так-то горько… Кто ему там попался? Косач, заяц, может, а то просто птичка-слепышок… дятел. Дятлов в первую очередь бьют. Не боязлив, доверчив. А слышу — два раза лупит — это промах чаще… В белый свет выпалил. Весь измучаюсь от этих выстрелов. Есть, спать не могу. На Илиме дежурю, проверяю. Жалко…
На широкой высоковольтной трассе остановились. Плечистые опоры ушагивали по увалам далеко за бледно-голубые хребты. Потрескивало, гудело на линии, в провислых проводах угадывалась неведомая сила. Сама трасса уже начала зарастать березовым прутнячком, осинками и кустами вербы, выбросившими на сухом месте поздние сережки. Яркий сосняк топорщился везде, напористо лез между черных пней и серых валунов, кое-где выступавших из земли. Везде таял ночной снежок и мягко пахло им и водой, сочившейся с камней, мягко проглядывало солнышко, еще не теплое, но уже сулившее близкую радость. Свистел, поскрипывал на вербе снегирь. Уныло ворковал в глуби лесной голубь-вяхирь. Кружил над трассой медленный канюк, высматривал добычу, и голос его звучал чисто и дико — «ки-аай, ки-аааай!». Все было так, как всегда бывает в перемежные дни весны, когда тепло борется с холодом, дождь с солнцем и когда веришь, вот-вот пересилит, проглянет, одолеет, и земля надолго станет теплой, сухой и счастливой.
— Ну, прощайте, — говорил лесник, пожимая руку сухой холодной ладонью. — Многословен был… Намолчался. Может, летом соберетесь, приедете… Рыбачить будем. Щук на дорожку. Комаров здесь, правда, много. Зато грибов, ягод… А то пишите, на Илим пишите, леснику. За почтой в неделю два раза бываю…
Я собрался на Балчуг лишь через год, в конце сентября. Светало, когда я сошел с проходящего поезда на Илиме. Часа через три муторной ходьбы по разбитой и грязной лесовозной дороге я вышел на трассу в том самом месте, где мы расстались. Присел отдохнуть на окатанный временем и дождями валун.
Когда я сижу на таких огромных камнях, мне почему-то вспоминается земля доисторическая, я думаю о ней, представляю, какие тогда были дожди, ветры, грозы, какие звери бродили в лесах. Какие ползли ледники. Может быть, лохматый рыжий мамонт заходил на эту горушку, стоял, касаясь камня хоботом, обдувая его утробным теплом, может, лежал на валуне пещерный лев, желтыми умными глазами следивший за стадом зубров, или сидел мой дальний прапредок, отдыхал и трогал на палец кремневое лезвие надежного копья. Многое вызывает широкий обомшелый валун. Во впадинах его поверхности скопилась серая земля, перегнивший мох и лишайник — тут уже поселились травинки, растет брусничник и даже ягодки есть, бурые и твердые. Идет жизнь. И березки на трассе подросли, поднялись, сквозят ярко-свежим желтым листом, и повыше стали ершики сосен. Шелково вспыхивает в них осенний тенетник, блестит и на камнях, и в траве. Холодом, заморозком тянет из низины. Осинки теряют твердый пунцовый лист…
Тишь и безветрие держались уже неделю. Земля томилась перед снегом. В пустом лесу слышны были одни синицы. Они трещали и цвенькали, возились в кустах.
Высоко над лесом, то растягиваясь почти в линию, то сдвигаясь в строгий печальный угол, в лад и мерно качая крыльями, пролетели гуси, и я следил, как они удаляются, теряясь в сырой холстине неба.
Вспомнились этюды лесника. Все-таки весь год и сейчас я вспоминал его, поджидал письмо, потом уже не ждал, но раздумывал, как снова выберусь сюда. Вспоминался Балчуг, березы у огорода, сырой песок берега, лодки, озеро и леса за ним. Я представил лесника, как он бродит сейчас где-то в уреме по Истоку, как открываются ему виды один другого лучше, какие там лохматые живописные ели средь желто-горящего березняка, его сиренево-белых стволов и горячих красок вянущего чернолесья. А сама река в широкой низине меж синих дальних хребтов… Даже виделось, как лесник сидит с этюдником, осторожно берет с палитры тон, кладет, откидывается, смотрит с обычным своим печальным, рассеянным вниманием и слушает тонкое фиканье отлетной пеночки, шныряющей в черемухах у воды. А может быть, просто сидит на берегу, на перевернутой лодке, сгорбился, надвинул козырек фуражки, глядит в озеро, на пересыпающиеся над волнами стайки птиц.
Захотелось скорей добраться до Балчуга.
На дороге в коричневой грязи, на поверхности луж и на молодых елках — везде цветисто и щедро желтели, голубели, краснели светлые и темные, свежие и жухлые листья. По всему лесу сильно пахло. Пахло листьями, сухой полянкой, землей, отдавшей лету свою предвечную силу, туманом, севшим в траву, последними грибами, последними муравьями. Этот запах особенно настаивался в низинах, где к нему примешивался острый аромат сникшей травы, подкошенной в отаву осоки и холодной воды, невидимо пробирающейся меж кочей. Изредка в лесу прокатывался выстрел. На мгновение замирало все, вздрагивало, прислушивалось. К полудню стало посвечивать, ненадолго расползлись облака, робкое тепло тронуло захолоделые опушки. Сиротой-ребенком улыбалось белое солнце — в тон ему был трепет листочков, писк синиц и что-то голубое, слегка фиолетовое, растворенное в далях, в кустах, меж стволов берез и в макушках сосен.
Снова бумкнул выстрел — эхо откатилось и просторно повторило его: раз-два-три…
Перед вечером я вышел на пойму к, Щучьему. Незнакомо нарядный в березняках и осинах завиднелся Балчуг. Вон и серая крыша кордона. Высокая жердь с антенной крестом торчала над ней. «Телевизор купил!» — удивился я на этот крест. Из желто-забеленной трубы прямо и мирно подымалась голубая струйка. «Дома!» — обрадовался я и заспешил по обкошенному зыбуну.
Едва ступил на островину — послышалось садкое теканье топора. Кто-то хозяйственно, сноровисто тесал им. Так текать может топор только в привычных руках. Навстречу выбежал рыжеватый пес с желтыми подпалинами, желтыми точками над глазами и вислыми ушами. Он залился злобным гончаковым брехом, опасливо встал. А вслед за собакой на тропу выскочили мурзатая девочка лет пяти и такого же возраста мальчик, может быть, чуть постарше, в огромной не по росту кепке. Никак не ожидая встретить тут детей, я молчал. Молчали и они. Разглядывали незнакомца. Потом кепка обернулась, сопливым голосом позвала:
— Дедо-о! Тут хто-то-о…
Кусты зашуршали. На тропу вышел прихрамывающий мужичок в фуражке лесника, загорелый и давно не бритый. Лицо его, маленькое, треугольное, с круглыми большими глазами лемура и крохотным поджатым ртом, выражало озадаченное недоумение. Мужичок держал плотничий топор, морозно блестевший по отточенному лезвию.
— Здорово… Кого надо? — приветствовал он.
— Лесника бы…
— А я и есть лесник… По какому делу-то? Проходите…
— Да нет. Не к вам… — пробормотал я, уже как-то тревожась и недоумевая. — Я к леснику, который тут жил… К Леониду…
— Во-она! — протянул мужичок. — К горбатому! Дак его нету… Год уж почти как схоронили. Приказал долго жить…
— Как?! — кашлем вырвалось у меня.
— А этак… Проходите, однако… Пшел ты! — махнул он топором на собаку, глухо ворчавшую с обычным собачьим недоверием.
Он захромал к кордону. А я побрел следом, все еще не понимая, отказываясь поверить, что лесника уже нет. Слова, так просто оброненные мужичком, не укладывались в сознании, и даже глупая мысль: «Что-нибудь тут не так…» — слегка успокаивала меня.
В огороде копали картошку две женщины: пожилая и молодая, похожая на нее, — по-видимому, мать и дочь. Желто и розово лежала на сохнущей земле меж кучек ботвы крупная россыпь клубней. Стоял до половины заполненный картофелем мешок. Лошадь по-прежнему паслась за изгородью. Женщины одинаково распрямились, с одинаковым любопытствующим недружелюбием поглядели.
Лесник провел меня мимо избы на берег озера. Тут, на подмытом валами обрыве, среди свежей щепы и коры, стоял располовиненный, еще не скатанный на мох сруб. Кучи белесого торфяного сфагнума сохли возле.
— Баню лажу, — мужичок кинул топор в янтарное, тихо звякнувшее бревно. — Садитеся, — пригласил, смел щепу и сор с толстой неошкуренной колоды. — Вот тута можно… Папиросочка-то есть у вас? — прищуриваясь, неловко-осторожно выловил сигарету прокуренными желтыми пальцами, неловко запалил, двигая нижней губой, уселся рядом.
— Как получилось-то? — продолжал он, затягиваясь, отдуваясь и отирая рукавом слезящийся глаз. — Ф-фа-а. Давно не курил легкого табаку. Сладкой… А так… Горбатый-то парень шибко настырный был. Вы ему не родня случаем? Не сродственник? Нет? Ну дак вот… Ведь он спуску никому не давал. Оружие отымал, сети, лодки у рыбаков. И все один. Сам. Бесстрашной был, на удивление даже. Стерег лес — ничо не скажешь. У него, брат, ни порубки, ни охоты в запрет, ни боже мой! Найдет, все одно найдет. Вот как будто чует… Прямо как из-под земли явится. Документики? Ага! Стоп… Сказывали люди: отымет ружье — шварк об лесину. Потом хоть бери, хоть не бери… Да-а… Силен был парень, а сердце, вишь ли, не сдюжило. За все, про все переживать — разве сердца хватит… Вернулся Ленька с обхода, только дверь отворил — и упал…
Мужичок бросил окурок, плюнул, затоптал и, подняв реденькие брови, рассудительно продолжил:
— Тут, на кордоне-то, никто с полгода не жил. Кто сюда зимой поедет. Волков слушать… Не больно счас народ на такие места зарится. Все давай работу полегче, чтоб тяжеле карандашика ничо, не подымать. Ну вот… Да… У лесника, видишь, родни-то никого не оказалось. Правда, имущества тоже одне картинки. Может, тебе надо какую, дак бери за ради бога. В сарае вон складены. Да… Художник парень был. Жалко его, конечно. Такие люди в редкость. И хозяйства у его ничо не было. Кошка только. Кошка-то долго тут жила. Ждала его, что ли… На дорожку все выбегала, мяучила. А как мы переселились, ушла куды-то, с тех пор не видал. Нук чо, может, еще закурим? Вот спасибочка — надоела махорка. Я ее сам сажу, шибко крепкая. Глотку дерет, как наждак, а на станцию недосуг съездить. Да еще приедешь — лавка на замке. Часто так бывает…
Помолчал, курил, следил, как дымок тает в холодеющем вечернем воздухе. Я тоже молчал, онемелый и опечаленный как нельзя более. Где ты, человек? Куда ушел? Почему нет тебя и уж не будет вовеки, а ведь давно ли сидели тут на этом берегу, у костра… Не хотелось ни говорить, ни спрашивать…
— Мне, конечно, за этим Ленькой не поспеть, — заговорил мужичок. — Он молодой, проворный был, даром что горбатый…
«Далось ему!» — с раздражением подумал я.
— Один он был, — продолжал меж тем мужичок, — а у меня, видишь, семья, внуки. Сам, можно сказать, инвалид. В трудармии мне ногу лесиной раздавило. Лес мы в войну резали. И сыграла мне лесина прямо комлем. В обход верхом больше езжу. Ну и жалованье невелико. На питанье… Туда-сюда… Глядишь — денег нету. Прирабливать приходится. Я, видишь, плотник, дак когда избу кому срублю, баню, амбар… Тогда баба заместо меня за лесом наблюдает али дочь… Ничего, пока не пакостят шибко-то. Поди возьми картины-то, — закончил он, подымаясь с бревна.
Прошли в гнилой, обгорелый сарайчик. Худая крыша насквозь просвечивала. Тут, в полумраке, среди сенных вил, граблей с выломанными зубьями, старой сбруи и банок с дегтем были прислонены и разбросаны покоробленные дождем и снегом этюды. Я брал один, другой, третий — все были безнадежно испорчены: картон вздулся, размок, краски отслоились, местами осыпались до грунта.
Взял самый маленький картон, наиболее уцелевший, — осина, тихо шумящая на ветру.
— Бери, бери, — охотно предлагал мужичок.
Мне захотелось пройти в деревню на могилу Леонида, но то ли не было у лесника времени, то ли по другой какой причине идти со мной он отказался, ссылаясь на ревматизм и хромоту. Зато долго, подробно объяснял, как пройти самому, где взять на левую руку, где на правую, где покажется осинничек, где пихтарничек. Тут же он выразил и сомнение: не найти тебе, парень, пожалуй…
Я заночевал на кордоне и наутро ушел прямиком по болоту. Пересек кочкарник, дошел до опушки, оглянулся. Уже далеко остался Балчуг. Предвечно синели за ним увалы. Светлело Щучье. Дул ветер, и лист летел с берез. Небо ветрилось, яснело. Высокие дороги пролегли там к солнцу, на восход.
1967 г.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК