[Послесловие] Л. Лазарев Так это было…
[Послесловие]
Л. Лазарев
Так это было…
В конце войны, отвечая на вопросы Американского телеграфного агентства, Константин Симонов писал:
«Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».
Говоря так, Симонов имел в виду и себя, и, может быть, себя главным образом: мало кто из писателей, буквально по пальцам можно перечесть (конечно, из тех, кто находился в действующей армии, в редакциях фронтовых газет, а тем более в строю), вел тогда дневники, даже если понимал их важность, их будущую ценность как непосредственного документального свидетельства, как материала для книг, которые предстоит написать. Записные книжки еще куда ни шло, они были у многих — как без них корреспонденту… А вот вести дневник, записывать день за днем происходящее вокруг тебя и с тобой, на это прежде всего не хватало сил — и духовных, и физических. Надо представить себе — и книга Симонова, которую читатель держит в руках, помогает этому, — в каких условиях на фронте находился журналист. И Симонову, человеку редкой работоспособности, собранности и целеустремленности, даже ему не удавалось вести дневник регулярно, день за днем, — он записывал, вернее диктовал, обычно задним числом, возвратившись с фронта в Москву, в редакцию. В одной из бесед — она опубликована — он рассказал мне: «Как же образовалось то, что я называю дневниками? Называю их так условно, точнее — это записи о войне. После того как я отписался и сдал корреспонденции, у меня как-то ранней весной сорок второго года возникла мысль вспомнить и записать все, что со мной было, все, что я видел в начале войны. Возникла для этого возможность — я мог это сделать, потому что была стенографистка и появились свободные, правда ночные, часы. И вот я стал между поездками, беря свои блокноты, которые с точки зрения журналистской были уже отработаны, или просто вспоминая, стал последовательно, день за днем, записывать, как шла война. Это не дневники, а подневная запись, то, что я мог вспомнить — не издалека, а по горячим следам».
И вторая причина, делающая подробные записи явлением редким, даже уникальным: вести дневники на фронте, особенно в первую половину войны, было строго-настрого запрещено. Это объяснялось требованиями бдительности: а вдруг дневник попадет в руки врага и он им воспользуется! Здесь нет нужды выяснять, были ли эти соображения обоснованы, но то, что за дневник можно было серьезно поплатиться, нажить себе нешуточные неприятности, это все хорошо понимали и немногие решались рисковать. Симонов это тоже понимал не хуже других — не зря отдал дневник на хранение главному редактору «Красной звезды», тот берег его в своем служебном сейфе, это место казалось не только надежным, но и безопасным.
Как и было им заявлено Американскому телеграфному агентству, сразу же после войны Симонов привел в порядок свои записи за сорок первый год и из их фрагментов составил подборку, которая была опубликована в журнале «Знамя» (1945, №№ 5–6, 7). Редактор этого журнала Всеволод Вишневский был одним из тех немногих писателей, кто отважился в дни войны вести дневник, и, наверное, поэтому сумел по достоинству оценить симоновские дневники. Но поразительное дело — в критике о них ни одного слова! А ведь популярность в ту пору у Симонова была огромная: каждая написанная им строчка вызывала у читателей острый интерес. Эта же публикация прошла практически незамеченной (фрагменты из симоновского дневника сорок первого года вошли в один из его сборников и больше не перепечатывались) и была прочно забыта. На четверть века дневники легли в ящик письменного стола, стали материалом лишь для «внутреннего пользования» (Симонов обращался к ним, когда писал «Живые и мертвые»), им долго пришлось ждать своего часа…
В чем же дело? Пусть это не выглядит парадоксом, но в то время мы (я имею в виду ту, основную массу читателей, которые были на фронте солдатами и офицерами переднего края) помнили войну много лучше, а знали хуже, чем четверть века спустя или сейчас. Помнили лучше — это были даже не воспоминания, мы еще продолжали жить в войне, и начавшаяся мирная жизнь казалась каким-то странным сном, в который трудно поверить. А наше знание войны сводилось тогда во многом лишь к личному опыту, хотя это был опыт, купленный очень дорогой ценой, и его никак и ничем невозможно возместить. Это был опыт чрезвычайно глубокий, но вместе с тем узкий, ограниченный, нам все-таки недоставало широкого и «стереоскопического» видения войны, мы смутно представляли ее общую панораму, без которой невозможно было оценить не только симоновский дневник, но и собственный фронтовой опыт.
Эта панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами — и продолжает складываться по нынешний день — из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг — документальных и художественных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из скупо публиковавшихся, но все-таки накапливавшихся архивных документов, статистических данных и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее осознавали мы место в общей панораме войны того, что видели сами, тем острее ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему новому, прежде нам неизвестному, лучше его различали, больше ценили, — впрочем, это обычная диалектика познания.
Было бы заблуждением думать, что военный опыт писателей, того же Симонова, запечатленный в немногих дневниках и записных книжках, в отличие от нашего опыта рядовых участников войны, был свободен от узости и ограниченности. И у них, когда они вели свои записи, представление об общей панораме войны было все-таки приблизительным, порой неточным. Многие взгляды и суждения, рожденные той эпохой и ей принадлежавшие, в какой-то степени были общими для всех современников, их справедливо называют расхожими, они с годами изменялись, трансформировались и через четверть века иногда кажутся странными, нелепыми, поражают даже нас самих, но ничего не поделаешь, так было. Эта проблема с неотвратимостью встает перед каждым писателем, решившим публиковать свои старые записи или дневники. Если он хочет быть верен исторической правде, он не может причесывать на нынешний манер то, что думал и писал когда-то. Но он должен — тоже из уважения к исторической правде, — не вторгаясь в старые записи, не подчищая их, не переписывая, дополнить, углубить, уточнить или оспорить свои впечатления и суждения военного времени, то есть требуется общая панорама, которая не только будет выполнять функции современного критического комментария, но и помогает определить степень достоверности, а, следовательно, и ценность публикуемых записей.
Симонов много размышлял над этим еще до того, как принялся готовить свои записи для второй — после 45-го года — уже полной публикации. В одном из писем в начале 60-х годов он советует автору присланной ему на отзыв рукописи: «…у меня родилась мысль (может быть, запоздалая): не сделать ли всю эту книжку как тогдашний дневник с сегодняшними комментариями? Может быть, это следует даже подчеркнуть и графически, — скажем, тогдашние записи набрать корпусом, а нынешние примечания — курсивом?.. При такой форме будет и ощущение полной достоверности и будет возможность, сохраняя эту достоверность тогдашних обстоятельств, чувств, поступков, мыслей, высказать и то, что Вы по этому поводу думаете и чувствуете сейчас…» Этот принцип подачи материала Симонов и осуществил в книге «Сто суток войны». Сопоставление и сочетание двух точек зрения, между которыми четверть века жизни, двух взглядов, у каждого из которых есть свои преимущества: один в упор, точно фиксирующий происходящее во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — расплываются; другой — издалека, охватывающий причины и следствия, обнаруживающий связь явлений, которую с близкого расстояния заметить невозможно. И преимущества одного компенсируют ограниченность другого. Эта постоянная «съемка» с двух «точек», делающая изображение «стереоскопичным», и есть то новое, что открыл автор «Ста суток войны» в традиционном литературном жанре, и одна из главных причин успеха дневниковых книг Симонова.
Но, разумеется, не единственная. Симонов в своих дневниках немало размышляет о чисто военных проблемах, его суждения серьезны и основательны, более того — проницательны, но важнее то, что это писательские дневники, и именно этим они привлекают больше всего. Они написаны автором, обладающим особой остротой, особо «настроенным» зрением. Дневник вел человек и очень наблюдательный, и отличавшийся жадным интересом к тому, что происходило, стремившийся увидеть побольше. Причем это был интерес сосредоточенный — Симонова больше всего занимали люди, их поведение на войне, в минуты смертельной опасности, их душевные качества, какими они были в мирное время и как трансформировались в войну, их чувство ответственности — профессиональной и гражданской (он постоянно подчеркивает их неразделимость), нравственные проблемы, которые встают перед людьми на фронте, житейские заботы, от которых никто не избавлен и на войне.
Всюду, когда Симонову удавалось это выяснить, он в комментариях сообщает обнаруженные им нынче сведения биографические, рассказывает о дальнейшей судьбе людей, с которыми он встречался на фронте. И даже мимолетные встречи начинают выглядеть не только запомнившимся автору коротким эпизодом очередной его командировки в действующую армию, но и частью жизни какого-то человека. (Кстати, читатель может убедиться и в том, сколь проницательны наблюдения писателя, — ведь они не только дополняются, но и проверяются тем, что мы узнаем о биографии этого человека.) «Моментальный снимок» как бы становится кадром того «фильма», который и есть вся прожитая человеком жизнь. В таком остром интересе к человеческой личности, хочу это повторить, — одна из существенных особенностей мемуарно-документальной книги Симонова как произведения писателя, художника.
Симонов раскрывает в своих записях, что война — это не только храбрость и стойкость солдат и офицеров, не только атаки и свистящие пули, поле боя, изрытое воронками от мин так, что, если бы они разорвались одновременно, ничего живого здесь не осталось бы, не только танки, орудия, самолеты, извергающие смертоносный металл или превращенные в фантастических размеров свалки металлолома. Война потребовала крайних, предельных усилий всего народа, не миновала никого, проникла во все поры жизни, стала повседневным бытом миллионов людей. Такой она запечатлена в дневниках. И не представив достаточно ясно, на каком краю мы стояли, не поймешь подлинных масштабов того, что происходило тогда, — ни размеров жертв, понесенных страной, ни величия народного подвига. Читая дневники Симонова, бесстрашно запечатлевшие те невыносимо тяжкие и горькие дни, все это лучше видишь и глубже осознаешь.
Пожалуй, ни в одном другом литературном жанре «образ рассказчика» не играет такой важной роли, как в дневниках и мемуарах. Здесь прямо отражается то, что было с автором, что он видел, с кем встречался, как в разных ситуациях вел себя, его достоинства и слабости. Самоощущение автора, его отношение к себе и к окружающим, поведение в минуты опасности, реакция на добро и зло — все это накладывает неизгладимо глубокий отпечаток на общую картину жизни, соответствующим образом формирует впечатления действительности. И тут надо прежде всего отметить стремление Симонова по возможности пережить то, что выпадает на долю людей, о которых он пишет, побывать с ними в деле, чтобы понять их, оценить меру выпавших на их долю испытаний. Он видел в этом и профессиональный долг, который потом сформулировал для себя так: «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь», — и нравственный принцип. При этом он исходит из того, что «работа военных корреспондентов была не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимали, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства». Такое отношение к себе — в конце жизни в фильме «Шел солдат…» он скажет снова и твердо: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом…» — необычайно привлекательная черта симоновских дневников. Автор не сооружает себе словесного пьедестала, не выпячивает себя, не носится с собой, он не боится признаться, что ему бывает и тяжко и страшно, но никак не преувеличивает выпадающих на его долю тягот и опасностей, дает непременно понять, что все это не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится выносить солдатам и офицерам «на передке». Попав в опасную заваруху, оказавшись в трудном положении, он склонен относиться к себе скорее с юмором, чем с жалостью. Но он неизменно серьезен, когда дело идет о выполнении долга: здесь он не дает себе никаких поблажек…
Незадолго до смерти, на одной из последних встреч с читателями (если быть совсем точным, на предпоследней — в Военно-политической академии имени В. И. Ленина) Симонов, коснувшись истории своей книги дневников, рассказал: «Идея опубликовать эти дневники, собрать их в книгу у меня возникла после того, как я сделал доклад „История войны и долг писателей“ на писательском пленуме. Многое было довольно резко сформулировано, печатать его не хотели. Ну я и решил: ах так, не хотите печатать 25 страниц, хорошо, я сделаю тогда этот доклад об истории войны и долге писателей на полторы тысячи страниц… Я, конечно, шучу, но в общем это был окончательный толчок».
Когда Симонову предложили к 20-летию Победы сделать этот доклад на пленуме Правления московской писательской организации и Комиссии по военно-художественной литературе при Правлении Союза писателей СССР, он сказал, что посвятит его не художественной литературе, а некоторым коренным проблемам истории Великой Отечественной войны, от понимания которых в немалой степени зависит и движение вперед литературы, и глубина осмысления писателями этого трагического материала. Подготовка этого доклада была для Симонова определенным рубежом постижения войны, итогом многолетних размышлений над причинами наших нежданных и постыдных поражений. Один из самых крупных наших военных историков, академик А. Самсонов писал об этом симоновском докладе: «Еще двадцать лет назад К. М. Симонов с присущим ему мужеством и гражданственностью выполнил эту работу, к которой сейчас, по сути, только еще приступают историки…» Действительно, в этом докладе впервые в нашей исторической литературе было сказано с такой резкостью и определенностью, что уничтожение в 1937–1938 годах больше половины высшего и среднего командного состава армии (репрессии, хотя уже не в таком масштабе продолжались и позже, до самого начала войны, что тоже отметил Симонов), обстановка истерической подозрительности, леденящего, сковывавшего людей страха, нравственный удар, который нанесли репрессии уцелевшим, — все это предопределило разгром наших армий в сорок первом, после которого они оправились с огромным трудом, ценой величайших жертв. Симонов камня на камне не оставлял от официального объяснения наших поражений, нашего отступления, которое в армии без дипломатических околичностей именовали тогда «драпом», вызванных «внезапным», «вероломным» нападением гитлеровской Германии: «Сталин, — писал он, — несет ответственность не просто за тот факт, что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению».
Набранный в двух изданиях доклад Симонова, как уже было сказано, света не увидел (он был опубликован лишь в 1987 году в июньской книжке журнала «Наука и жизнь»), В это же время на Симонова обрушились и другие такого рода неприятности — задержан был выпуск на экран документального фильма об обороне Москвы «Если дорог тебе твой дом…», сценарий которого Симонов написал вместе с Е. Воробьевым и В. Ордынским и работа над которым ему казалась делом в высшей степени общественно важным. Власть предержащие, грозя положить фильм на полку, требовали купюр и поправок, предъявляя фильму те же претензии, что и к зарезанному в печати докладу. Для характеристики идеологической обстановки той поры стоит напомнить, что тогда же состоялся показательный — с оргвыводами — разгром книги А. Некрича «1941, 22 июня». Все это означало, что исследованию причин наших ошибок, поражений, сталинских преступлений кладется конец. После хрущевской «оттепели» страну снова подмораживали, проводилась вкрадчивая, иезуитская — с заверениями: «Никто не отменяет решений XX съезда партии о культе личности», — но непрестанная и неуклонная ресталинизация.
Приходится только удивляться, что в таких условиях Симонов продолжал работать над комментарием к своим военным дневникам. Он не мог не понимать, что напечатать все это будет очень трудно, а если удастся, то только чудом. Но, видно, работа эта была ему так душевно необходима, так захватила его, что забросить или отложить ее он уже не мог. «Сто суток войны» были закончены, приняты Твардовским, который очень высоко оценивал эту вещь Симонова, набраны и должны были появиться в трех последних номерах 1967 года. Но объявленная журналом книга света не увидела — как говорили в ту пору, по не зависящим от автора и редакции обстоятельствам. Симонов пытался бороться с цензурой, пробить эту стену, увы, ничего из этого не вышло. Он решил обратиться «на самый верх», все-таки он был обладателем одного из самых громких имен в нашей литературе, особенно высок был его авторитет как военного писателя, но не получил не только поддержки, но и ответа. Сохранились письма, запечатлевшие историю его безрезультатных хлопот и хамского начальственного произвола.
Человек мужественный и стойкий, обычно не падавший духом от неприятностей и ударов судьбы, Симонов эту историю переживал тяжело. В письме своему старому другу Д. Ортенбергу, в котором речь идет о заказанном им Симонову очерке для готовившегося сборника о Г. К. Жукове, он не скрывает мрачного настроения и горьких мыслей: «Не надо себя тешить иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я просто и не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, при нынешнем отношении к истории света не увидит. Поэтому я и сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора…
Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало.
Что же касается моих колебаний, ты должен понять их. Я дал тебе слово написать. Я люблю тебя и хотел бы выполнить это слово. Я люблю и уважаю Жукова и рад был бы написать о нем. Но пойми мои чувства человека, у которого лежит полтора года без движения рукопись, которую он считает лучшей из всего, что он написал. Как трудно такому человеку сидеть и писать еще одну вещь, которая, по его весьма основательным предчувствиям, ляжет и тоже будет лежать рядом с предыдущей».
Кстати, предчувствия не обманули Симонова — написанные им по просьбе Д. Ортенберга «Заметки к биографии Г. К. Жукова» были опубликованы только через двадцать лет, в 1987 году. А дневники первых месяцев войны увидели свет через семь с лишним лет после того, как были набраны в «Новом мире», — с немалыми потерями, с весьма существенными купюрами в комментариях.
Отвечая в 1972 году на грустное и растерянное письмо одной читательницы, которая пришла в уныние, столкнувшись в литературе с намеренными искажениями исторической правды, Симонов писал:
«Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее — главным образом при помощи умолчаний…
Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».
Симонов оказался прав, говоря, что правду не скроешь, что подлинная история, что бы ни делалось для того, чтобы задним числом ее переписать, подчистить, приукрасить, все равно рано или поздно откроется. Это время пришло раньше, чем предполагал Симонов, мы дожили до него. Как жаль, что сам он не увидит, что его «Сто суток войны» выходят в том виде, в каком он написал эту книгу суровой правды и в каком хотел, чтобы ее прочитали…
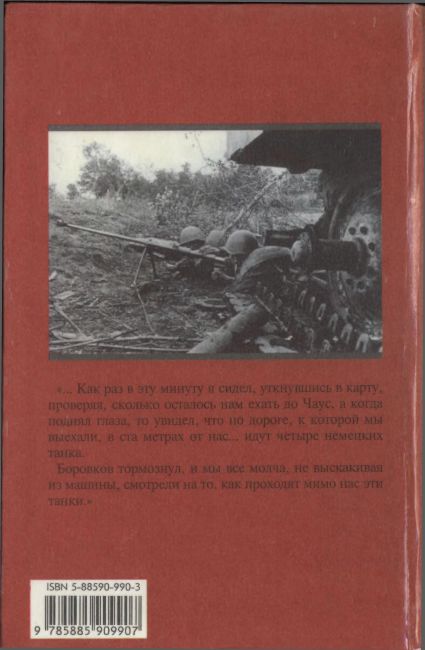
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ИСТОРИЯ. КАК БЫЛО, КАК ЕСТЬ И КАК БУДЕТ В начале было Слово…
ИСТОРИЯ. КАК БЫЛО, КАК ЕСТЬ И КАК БУДЕТ В начале было Слово… «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей
Абамелек-Лазарев, С. С.
Абамелек-Лазарев, С. С. АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ, Сем. Сем. (1857-1916), кн., шталм., т. сов. Крупный землевлад. и заводчик. Пожизн. чл. клуба националистов. IV,
Послесловие
Послесловие Несмотря на авторитетное мнение Эдуарда Толля, Земля Санникова продолжала занимать умы. Академик В.А. Обручев даже написал увлекательный роман «Земля Санникова», по которому снят замечательный фильм.В 1913 году в море Лаптевых отправился ледокольный
Послесловие
Послесловие Ах да, я же не написала о том, как прилетела в Россию…Не стану подробно останавливаться на том, как я улетала и что при этом чувствовала; как мы плакали вместе с Санни, прощаясь в аэропорту, и не могли оторваться друг от друга, будто расставались на годы (а на
Послесловие
Послесловие Полтора десятка лет назад, когда я впервые приехала из России в Америку, в обеих странах царила эйфория. Американцы радовались коренным переменам в России: гласность, свобода, демократия! Русские же восхищались Америкой. Они плохо ее знали, но в пику советской
Послесловие
Послесловие На моем письменном столе в Москве лежит черная лакированная шкатулка. Ее изогнутые линии точно воспроизводят очертания острова Формозы. Внутри шкатулки печатка и красные чернила. Я покрасила печатку чернилами, прижала к листу белой бумаги и получила
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ На интернет-форумах, посвященных трагедии группы Игоря Дятлова, с завидной регулярностью всплывает вопрос: узнал ли правду о судьбе группы Борис Ельцин, став Президентом РФ? Ельцин был выпускником свердловского «Политеха», всю жизнь поддерживал теплые
Послесловие
Послесловие В конце такой книги полагается отвечать на вопрос «Что делать?», но я на этот вопрос отвечаю в других своих произведениях и повторять давно пропагандируемый мною ответ не хотел бы.Но есть одна насущная потребность, которую необходимо реализовать вне
То, чего не было, и то, что было
То, чего не было, и то, что было Механизм сотворения легенды или мифа, как правило, прост, — стоит только (если, конечно, удастся) заглянуть внутрь его.…Расплюев, расстроенный и растерзанный, является, выдравшись из своей шулерской передряги:— Ну что делать! каюсь…
Комунэлла Моисеевна Маркман «Быта у нас не было, надежды не было, а жизнь — была»
Комунэлла Моисеевна Маркман «Быта у нас не было, надежды не было, а жизнь — была» 1924 Родилась в Тбилиси. Отец, директор Центрального строительного треста Грузии, расстрелян в 1937 году, мать провела пять лет в АЛЖИРе (Акмолинском лагере жен изменников родины). 1943 Комунэлла
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ Филипп Сергеевич Октябрьский в 1948–1953 гг. был первым заместителем главнокомандующего ВМС, затем — начальником управления в центральном аппарате ВМС, начальником Черноморского высшего военно-морского училища. С 1960 г. Октябрьский в Группе генеральных
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ Ностальгическое путешествие бывшего разведчика по Скандинавии длиною в тридцать лет закончилось. Это, конечно, далеко не полный отчет о служебной карьере автора. За рамками повествования остались годы работы в центральном аппарате разведки, краткие, но
Документ № 1 «Национальный состав – русские, много сибиряков было, процентов 70 было русских, процентов 10 украинцев, а остальные националы. Лучше всего дерутся русские». Из беседы (сотрудников Комиссии) с генерал-лейтенантом Василием Ивановичем Чуйковым – командующим 62‑й армией. 5 января 1943 г. С
Документ № 1 «Национальный состав – русские, много сибиряков было, процентов 70 было русских, процентов 10 украинцев, а остальные националы. Лучше всего дерутся русские». Из беседы (сотрудников Комиссии) с генерал-лейтенантом Василием Ивановичем Чуйковым – командующим
Документ № 29 «Особенно было жутко 23 октября. Сил у нас было мало, были раненые, были убитые. Немец после артподготовки пошел в атаку. В нашем батальоне было мало людей» Из беседы с красноармейцем Федором Ивановичем Черданцевым – связным 3‑го батальона 112‑го полка.
Документ № 29 «Особенно было жутко 23 октября. Сил у нас было мало, были раненые, были убитые. Немец после артподготовки пошел в атаку. В нашем батальоне было мало людей» Из беседы с красноармейцем Федором Ивановичем Черданцевым – связным 3?го батальона 112?го