САМАЯ ДОЛГАЯ НОЧЬ
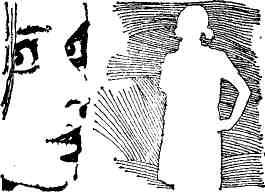
Как всегда бывает на юге, темнота наступила сразу: едва потух закат, как на город обрушилась сухая, знойная ночь, веющая запахом моря, жареной рыбы и нагревшихся за день крыш.
В переулке рядом с клиникой жильцы обычно садились в это время ужинать. По южной привычке летом ужинали прямо на улице, вынося из дома столы и табуреты и расставляя их под деревьями. В густой пыльной листве акаций загорались яркие лампы; на ветвях грелись, точно змеи, длинные электрические провода, переброшенные из раскрытых окон. Свежо и крепко пахло разрезанным арбузом. В трещинах между камнями изо всех сил звенели бесстрашные городские сверчки.
Тоня выросла в этом большом южном городе, никуда отсюда не уезжала, и ей казалось, что так люди живут повсюду. Для нее, как для всех ее сверстников, улица была продолжением дома. У них в семье тоже ужинали во дворе под акацией, а потом Тоня вместе с сестренкой уносила со стола тарелки, полные тяжелых полосатых корок арбуза.
С четырех сторон во двор выходили окна и завитые диким виноградом галерейки; вечером было видно, как в квартирах, освещенные ярким светом, двигались, разговаривали, сидели, смеялись, ссорились люди, а иногда казалось, что видишь все это в театре. После ужина Тоня любила оставаться во дворе: она садилась на скамейку под акацией, смотрела на освещенные окна, и ей представлялось, что это не соседи, которых она знает с детства, а какие-то незнакомые люди с незнакомой, таинственной жизнью…
Все это бывало, когда Тоня училась в школе, и сейчас ей казалось, что с той поры прошло бесконечно много времени. Сейчас Тоня так уставала к вечеру, что уже ни о чем не думала, глядя на чужие окна.
Сегодня день выдался особенно трудный: в ворота клиники то и дело въезжали машины «Скорой помощи». Вывихи, переломы, ожоги, аппендициты… Дежурил сегодня Антон Кириллович. Санитарки и сестры любили его больше других врачей. Это был рослый, широкоплечий человек с рано облысевшей головой и добрыми детскими глазами. Тоню поражало, что даже в самые трудные операционные дни Антон Кириллович никогда не терял ровного и даже как будто веселого расположения духа. Зайдя в палату, где лежали после операции тяжелые больные, он шутил с ними и разговаривал так, словно они были совершенно здоровыми людьми. Когда он проходил по вестибюлю, где томились, изнемогая от тревоги, родственники больных, те бросались к нему, и он охотно останавливался и стоял на сквозняке в своем белом халате с засученными рукавами, высокий, плечистый, с загорелыми щеками рыболова, и отвечал всем весело и спокойно, будто никуда не торопился.
«Как он может шутить? — думала Тоня, глядя на добродушное лицо Антона Кирилловича. — Ведь он разговаривает с женой того больного, у которого операция продолжалась четыре часа. После операции самому Антону Кирилловичу делали инъекцию камфары, так он измучился. А сейчас шутит…»
Тоня попыталась, как бывало уже не раз, представить себе операционную и то, что в ней происходит, и опять почувствовала, как между лопаток пробежал ледяной, обжигающий холодок. «Неужели врачи могут ко всему этому привыкнуть?» — подумала она и вздохнула.
Уже больше месяца Тоня работала санитаркой в большой хирургической клинике. Десять лет подряд она ходила в школу мимо серого каменного здания клиники, стоящего в глубине двора, за красивой чугунной решеткой. Она бежала мимо ворот клиники ранним утром, торопясь на первый урок; она неторопливо проходила мимо чугунной решетки по вечерам, когда возвращалась домой из кино и ее провожал Митя Чечик.
Вначале они шли с Митей Чечиком по переулку, где стояли, выстроившись в ряд, белые машины с красным крестом, ожидая вызова. Возле дома, под деревьями, жильцы, поужинав, играли в домино. Они с размаху стучали по столу костяшками, а из окна, опершись грудью о подоконник, высовывалась, точно из театральной ложи, девушка с черной челкой и красивым недовольным лицом. За ее спиной в комнате оглушительно пели битлсы, переписанные на магнитофонную ленту с заграничной пластинки.
И вдруг, заглушая и битлсов и стук костяшек, на весь переулок раздавался микрофонный голос, словно он шел прямо со звездного неба:
«Машина номер семь, приготовиться на выезд!»
Слышался стук автомобильной дверцы, тотчас же раздавался скрежещущий звук стартера, и машина со светящимся красным крестом на крыше вырывалась из переулка и уносилась в темноту.
Куда она мчалась? Кто ожидал ее? Тень чужой беды неслышно и грозно проносилась через переулок, где под облепленной мошкарой яркой лампочкой стучали костяшки домино и раздавались возгласы игроков.
— Я буду врачом! — говорила Тоня, глядя в темноту. — Когда мы окончим школу, я поступлю на медицинский. Я это твердо решила.
Митя Чечик молча вздыхал. Ему важно было только одно: чтобы он мог, как и прежде, провожать Тоню по вечерам домой. А Тоня смотрела на ярко освещенные окна клиники, за которыми двигались тени, и старалась представить, как она входит в палату, взрослая, красивая, в белом врачебном халате, который ей очень идет, и будущее рисовалось ей удивительным и полным подвигов.
И вот Тоня закончила десять классов и работает в клинике, о которой мечтала. Но все оказалось совсем непохожим на ту жизнь, какая представлялась ей, когда она шла с Митей Чечиком по звездному переулку.
С утра до вечера Тоня моет полы.
Она моет полы в бесконечных коридорах, в палатах, в вестибюле, в уборных; она моет лестницы, площадки, переходы. Полы надо мыть теплой мыльной водой с нашатырным спиртом, тереть их жесткой щеткой, и она трет, сидя на корточках, трет истово, старательно, и, когда приходит домой, у нее болят спина и руки, а перед глазами мелькают изразцовые плитки и каменные ступени.
Разве хирург должен уметь это делать? Когда она станет врачом, она даже не будет знать, кто вымыл пол, как, наверное, не знает этого хирург, что идет сейчас по коридору, стягивая с рук резиновые перчатки и осторожно ступая по отмытым до зеркального блеска плиткам. А Тоня стоит в это время над тазом, полным грязной мыльной воды, красная, с прилипшими к потному лбу волосами, и думает о том, что завтра полы надо мыть снова.
Для чего же она кончала школу, думала Тоня. Для чего получала пятерки за сочинения; для чего ей знать наизусть стихи Анны Ахматовой, любить Чехова и Хемингуэя?
Ничего, ничего этого не нужно человеку, который с утра до вечера трет полы и выносит ведра. Уборщица тетя Фрося не знает, кто такой Хемингуэй, а моет коридор куда быстрей, чем Тоня. Если хотите, это просто нелепо: человек закончил десять классов и занимается делом, для которого его знания ни к черту не нужны. И все потому, что она недобрала одного балла на конкурсных экзаменах и не смогла поступить в этом году на медицинский. Митя Чечик поступил, а она нет. Конечно, это неприятно. Но это вовсе не значит, что она должна целый год таскать ведра с грязной водой.
«Нет, надо уходить отсюда, — думала Тоня. — Жизнь коротка, и нельзя тратить ее так бездарно. Надо скорей уходить отсюда, но как сказать об этом маме?»
Она представила себе лицо мамы, потом разговор с отцом. Пойдет вспоминать войну, окопы, землянки, в десятый раз расскажет, как мама, когда он ушел на фронт, работала на военном заводе… «Нет, я от тебя этого не ждала. Какое малодушие!» — скажет ей мама, и губы у нее задрожат.
Все это надо выдержать. Все это надо выдержать, потому что она твердо решила больше здесь не оставаться.
А сейчас она чуточку отдохнет.
Просто выйдет во двор, сядет и будет смотреть на звезды. В конце концов человек имеет право отдохнуть. Сегодня так жарко и такой трудный, такой долгий был день.
Тоня спустилась по лестнице и вышла в вестибюль. Там стояли мужчина и женщина и кого-то ждали.
Женщина была высокая, красивая, в лиловом джемпере, с серьгами в маленьких розовых ушах. Небритый мужчина казался ниже ее ростом, глаза его глядели растерянно.
Дверь приемного покоя приоткрылась, оттуда выглянула Тамара Петровна, пожилая женщина-врач, в халате и белой шапочке на седых волосах.
— Где же Арутюнянц? — сказала она с досадой. — А ну зайди сюда, Тоня…
Тоня вошла.
— Возьми пока этого мужчину, — сказала Тамара Петровна и показала рукой на клеенчатую кушетку. — Отнесешь на второй этаж, пусть готовят к операции. Аппендицит.
На кушетке, свесив тонкие ножки, сидел мальчик лет четырех. Тоня подняла его, он доверчиво обнял ее за шею.
— Как тебя зовут? — спросила Тоня шепотом.
— Вова, — ответил мальчик грустно.
Держа его на руках, Тоня вернулась в вестибюль. Там по-прежнему стояли те двое. Женщина улыбнулась мальчику, мужчина рванулся навстречу, но остановился и только помахал рукой. Мальчик махнул в ответ. Лицо его было серьезным, как у взрослого. Подымаясь по лестнице, Тоня обернулась: мать уже пошла к выходу, а отец все стоял и смотрел им вслед. Он еще раз помахал мальчику рукой, но тот его уже не видел.
Отдав ребенка дежурной сестре, Тоня спустилась вниз.
Из конец-то она может выйти во двор. Она открыла дверь, ночь обдала ее ветром, горячей тьмой, звездным блеском. Тоня села на лавочку, тишина и покой хлынули на нее, она глубоко и блаженно вздохнула. Небо, густо пересыпанное звездами, было уютным и знакомым. Тоня пошевелилась, стараясь удобней сесть, и ощутила странную тяжесть в левом плече, как будто к нему по-прежнему прижималось горячее детское тело. От этого ощущения исходила смутная тревога и вместе с тем что-то доброе и нежное, с чем не хотелось расставаться. Она распрямила спину, но ощущение не исчезало.
Тогда она закрыла глаза.
И тотчас же услыхала позади себя шорох и движение.
В полумраке двора трагично, страстно и безмолвно, как в немом кино, металась, ломая руки, женщина. Она судорожно втягивала сквозь зубы воздух. Две другие женщины пытались ее удержать. Справа ярко светилось окно операционной, за матовым стеклом двигались длинные тени.
— Боже ж мой, ведь она могла обойти его с другой стороны! — вдруг закричала женщина отчаянным голосом. — Она могла пройти по дорожке, и тогда ничего бы не случилось! Почему, почему я не пошла вместе с ней?
— Что случилось? — спросила Тоня шепотом.
Ей никто не ответил.
— Почему, почему я не пошла с ней? — снова хрипло крикнула женщина и забилась в руках подруг.
— Сердце мое, голубочка, не убивайся так, — сказала старушка в платке и заплакала сама. Обернувшись, она увидела Тоню. — Дочка ее под самоходный кран попала, — объяснила она Тоне шепотом. — Пятнадцать лет девочке. Хотела обойти кран сзади, а очутилась между краном и забором. Машинист ее не видел и подал кран назад. А ей отступить было некуда, ее и придавило…
— Ой Надечка, ой моя Надюшенька, почему же ты не пошла по дорожке?.. — вскрикнула женщина и громко зарыдала.
В доме через дорогу включили радио, мужской голос ласково сказал: «На станции Восток сегодня днем температура была минус шестьдесят два градуса…» За оградой самозабвенно стучали костяшками игроки в домино.
Тоня стояла неподвижно, точно окаменела. Мать подняла руки и ужасным, отчаянным движением рванула свои волосы, уложенные венцом вокруг головы. Женщины запричитали, засуетились возле нее. Тоня попятилась и ринулась обратно в клинику, словно искала там защиты.
В вестибюле она остановилась и перевела дух. И тут увидела, что на лестнице стоит Антон Кириллович. Стоит и смотрит прямо на нее.
«Чего это он на меня так уставился? — подумала Тоня встревоженно. — Может, волосы выбились из-под косынки? Он, наверное, и не знает, как меня зовут. Просто толчется у него каждый день перед глазами какая-то девчонка с толстыми щеками. Ему и дела до меня нет. Лучше бы мне вернуться во двор. Господи, но я же не могу туда вернуться!..»
«Зря сестры смеются, что она моет полы в перчатках, — думал в это время Антон Кириллович, глядя на Тоню. — Дело девичье, боится, что руки огрубеют… А она старательная и как будто толковая. Может, попробовать оставить ее сегодня дежурить в седьмой палате?»
Антон Кириллович выглядел озабоченным и мрачным. Пожалуй, в первый раз Тоня видела его в таком состоянии. Тоня стояла, не решаясь уйти, а Антон Кириллович по-прежнему молчал и смотрел на нее светлыми усталыми глазами с припухшими веками.
Молчал и думал.
Антон Кириллович спустился в вестибюль из операционной: он ампутировал ногу девочке, попавшей под самоходный кран. Иного выхода не было, ампутация оказалась неизбежной. И Антон Кириллович только что закончил эту простую и ужасную операцию, которой страшатся все хирурги.
Ему было бесконечно жалко девочку. Но кроме жалости его мучила еще и тревога.
Он знал, что? испытывают люди, когда приходят в себя после подобной операции. Особенно в таком возрасте, как эта девочка. В пятнадцать лет человек не дорожит жизнью. Она может пытаться покончить с собой; надо, чтобы возле нее все время кто-то находился. Время позднее, никого в такой час не вызовешь. И, глядя на Тоню, Антон Кириллович прикидывал, можно ли поручить ей это дежурство.
— Понимаешь, Тоня… — наконец сказал он, и Тоня в удивлении подняла на него глаза: он произнес это так привычно, словно знал ее давным-давно. — В седьмой палате лежит девочка. И вот понимаешь… Я ей сейчас ногу ампутировал. — Он вздохнул и потер лоб. — Беда, большая беда! Так вот, я хочу тебя просить возле нее сегодня подежурить. Думал вначале мать оставить, но она в таком состоянии… — Он безнадежно махнул рукой. — Так что придется, Тоня, остаться тебе. Родных твоих мы предупредим, не беспокойся. Да и тебе пора переходить на работу в палате. Хватит полы в перчатках мыть.
Он улыбнулся, увидев, как Тоня залилась румянцем, и стал в эту минуту похожим на прежнего веселого Антона Кирилловича. Но тут же лицо его снова стало серьезным и усталым.
Он помолчал и сказал уже другим, деловым голосом:
— Пойди к Анфисе Петровне, скажи, что я назначил тебя в седьмую палату. Она тебе все покажет. Если чего не поймешь, к ней обращайся. Ну, иди.
Он повернулся и пошел в дежурку, тяжело ставя длинные ноги в летних сандалиях. А Тоня пошла к Анфисе Петровне.
Анфиса Петровна работала в клинике санитаркой больше тридцати лет.
Это была высокая сердитая женщина со смуглым рябоватым лицом. В клинике ее побаивались не только молоденькие сестры, но и врачи; Тоня заметила, что даже сам профессор, обращаясь к ней, всегда говорит каким-то осторожным, извиняющимся голосом. Молчаливая, длинная, как удочка, в туго повязанной косынке на темных, без единой сединки волосах, она быстро и бесшумно проходила мимо Тони, когда та мыла полы, и только строго скашивала на нее свои маленькие, пронзительные глаза.
И вот к этой-то Анфисе Петровне Тоня и должна была сейчас обратиться.
Анфиса Петровна появилась, как всегда, внезапно. Наклонившись вперед, словно бегун на старте, она неслась по коридору, держа в руке резиновую грелку.
— В седьмую назначили? — сказала она, не дав Тоне выговорить слова. — Пока не ходи. Еще у ей все в голове мешается. Пока к ей никого не надо. — Она придирчиво и неодобрительно оглядела Тоню своими сверкающими угольными глазками. — Сейчас пойдешь со мной, — приказала она. — Поможешь поднять одного тяжеленного — постель надо ему поправить. Все руки пообрываются, пока его перекладываешь…
Анфиса Петровна вошла в мужскую палату, и Тоня робко ступила вслед за ней.
На кровати лежал старичок, сухой и легкий, как лист. Плоское тело его чуть угадывалось под одеялом.
«Неужели это и есть «тяжеленный»? — думала Тоня, глядя на маленькое, как кулачок, лицо старика, обтянутое бледной кожей. — Ведь его же ветер может сдуть…»
— Сейчас, батюшка, мы тебе постельку поправим, — сказала Анфиса Петровна, наклонившись, и Тоня не узнала ее голоса — так он был тих и мягок. — Ноженьки твои холодные согреем, спинку я тебе потру… — Она скосила на Тоню глаза и вдруг рявкнула: — Чего стоишь, подойди справа! Руки, руки под его подложи… Сейчас, сейчас, батюшка… — снова сказала она мягко и ласково.
Тоня начала осторожно приподнимать больного и изумилась: старичок оказался таким тяжелым, словно был откован из железа. Натужась, она с трудом повернула его, пока Анфиса Петровна проворно расправляла простыню. Тоня еще не знала, что тело человека, которого болезнь сделала неподвижным, всегда становится безмерно тяжелым, ибо уже не может откликнуться на чужое живое усилие.
Запыхавшись и неловко отступив, Тоня увидела на соседней кровати мальчика, которого относила на руках из вестибюля. Очевидно, ему уже сделали операцию. Мальчик молча смотрел на нее.
— Как дела, Вова? — спросила Тоня тихо, подойдя к его кровати.
— Побаливает, — серьезно ответил мальчик.
— Потерпи немножко. Тебе укол сделают, и не будет болеть. А завтра мама с папой к тебе придут…
— Это не мама, — ответил мальчик так же серьезно. — Это тетя Клава.
Смутившись, Тоня поправила ему подушку. Она вспомнила красивую женщину в лиловом джемпере, вспомнила, как та ушла из вестибюля, не оглянувшись, и смутилась еще больше.
— Пойдем отсюда, — приказала Анфиса Петровна.
В коридоре было пустынно. Из палат доносились то тяжелый вздох, то скрип кровати, то чей-то стон. Больничная ночь, полная тревожного забытья, уже совершала свой обход.
— Его мама с ними не живет, — пояснила Анфиса Петровна. — Такой хороший мальчишечка, а вот поди ты что случилось! А из чужой тети мамы не сделаешь. Особливо из этой…
Они вошли в другую палату. На койке возле самой двери лежал белоголовый мальчик, постарше Вовы. Глаза его были открыты, он не спал.
— Полюбуйся на умника, — сказала Анфиса Петровна скрипучим голосом. — Стояла на рельсах вагонетка с инструментами. Так он надумал ее рукой толкать. Другой игрушки не нашел. Дотолкался, пока руку покалечил.
Мальчик молча покосился на свою правую руку, толстую от бинтов и гипсовой повязки.
— Ну? — спросила Анфиса Петровна. — Как же теперь будет с вагонеткой?
— Придется толкать ногой, — сказал мальчик уныло.
Тоня фыркнула, но поймала грозный взгляд Анфисы Петровны и сделала постное лицо.
Они шли из палаты в палату; одни больные спали, другие встречали их стоном, жалобами… Анфиса Петровна знала каждого, кто лежал здесь, знала не только, чем человек болен, но и где он работает, какая у него семья, кто придет его завтра навещать. Сильные, жилистые ее руки были ухватистыми, словно грабли.
Неожиданно Анфиса Петровна повернулась к Тоне и сказала:
— Теперь ступай в седьмую. Как раз срок. — Прочтя на Тонином лице смятение, она добавила строго: — Не боись! Бояться тут нечего. Но глаз с ей не спускай, поняла? А я, как управлюсь, зайду к тебе.
И Тоня вошла в седьмую палату.
Это была маленькая комната, где стояла одна-единственная кровать. На ней лежала очень румяная крупная девочка с кудрявыми волосами. Тоня увидела длинные загорелые руки девочки, под больничной рубахой угадывались широкие плечи спортсменки. Девочка спала. Тоня села на табурет у кровати.
И тотчас же перед ней замелькали картины всего, что она сегодня видела. Какой долгой будет эта ночь, какой долгой!.. Она сидела не шевелясь, уставившись на потолок с изогнутой, точно молния, трещиной на штукатурке, и все думала, думала…
И вдруг она увидела, что девочка совсем не спит.
Не спит и смотрит прямо ей в лицо. Глаза у девочки были темные, блестящие и неподвижные.
— Может быть, ты хочешь пить? — спросила Тоня робко.
— Нет. — Голос девочки звучал низко и хрипло. — Сейчас ночь?
— Да.
— А что это шумит за окном? Дождь?
Тоня прислушалась.
— Нет, ничего не шумит, — сказала она. — Я только недавно была во дворе. Небо чистое, звезды видно.
— Звезды… — медленно повторила девочка. — А мне все кажется, что идет дождь. Что же тогда шумит? Или это море шумит? — Она замолчала. — Утром была такая теплая вода в море, — сказала она. — И очень тихо было. Я далеко заплыла. Я знаешь где купаюсь? На Пересыпи. Ты ходишь купаться на Пересыпь?
— Нет, я на Большой Фонтан езжу. Мне туда ближе.
— А я на Пересыпи купалась. И вот вышла из воды и вижу: на берегу женщина вареную пшенку продает. Ну кукурузу. А я ее люблю, просто ужасно люблю. И вот я купила одну штуку и пошла домой. Шла по улице и ела горячую кукурузу. Это я хорошо помню. — Она опять замолчала. — Дай мне чаю, пожалуйста, — сказала она, уставившись на Тоню своими огромными блестящими глазами. — Дай мне, пожалуйста, чаю, если можно.
Тоня побежала в дежурку. Она налила горячего чаю, вынула из своей сумки большое яблоко и положила на блюдце. Осторожно, чтобы не расплескать чай, она понесла все это в палату.
И вдруг, едва Тоня вышла из дежурки, она услыхала крик.
Это был даже не крик, а вопль, полный отчаяния и ужаса. Он ворвался в коридор и, казалось, сразу заполнил все его пространство. На секунду вопль замер, оборвавшись хриплым рыданием; потом раздался снова, звенящий, ужасный, не похожий ни на что когда-либо слышанное Тоней, невероятный, ибо нельзя было поверить, что душа человека может вместить такое отчаяние и боль.
Послышались тревожные возгласы, скрип кроватей: больные проснулись. Тоня помчалась по коридору: она уже знала, что крик несся из седьмой палаты. Яблоко упало, чай расплескался и обжег ей руку.
Но когда она вбежала в палату, Анфиса Петровна уже была там.
Она стояла к Тоне спиной, наклонившись над постелью. Еще с порога Тоня увидела запрокинутую голову девочки, странно и страшно изогнувшееся тело, смуглые руки, вцепившиеся в спинку кровати. Серое больничное одеяло валялось на полу. Правая нога девочки, загорелая и сильная, была согнута в колене; вместо левой белел короткий забинтованный обрубок. Сквозь бинты просочились темные пятна крови. Анфиса Петровна подняла с пола одеяло и прикрыла девочку до пояса.
— Я не знала!.. — хрипло крикнула та. — Почему мне не сказали? Я ничего, ничего не знала… Я только сейчас увидела…
Она рванулась и хотела сорвать с раны бинты, но Анфиса Петровна крепко схватила ее за руки.
— Стыд какой… — спокойно и негромко сказала Анфиса Петровна. — Всех больных разбудила, всех растревожила. У других, может, еще больше горе, чем у тебя. Но они терпят, они тебя жалеют.
— Почему я не умерла? — крикнула девочка. — Боже мой, мне никто не сказал… Я ничего, ничего э т о г о не знала… Нет, нет, я не буду жить! Я хочу умереть…
— Помереть — дело нехитрое. — Анфиса Петровна отпустила руки девочки и прикрыла ее плотней одеялом. — А живут люди и не с такой бедой. И живут, и жизни радуются! Я тридцать пять лет здесь, навидалась, насмотрелась…
Девочка замолчала и уставилась на стену своими блестящими, темными глазами. Анфиса Петровна отошла, показав Тоне рукою на табурет. Тоня робко села. Из палат по-прежнему доносился негромкий тревожный шумок. Потом все умолкло. Наступила тишина.
— Почему я не умерла? — сказала девочка. Сейчас она говорила шепотом, но он был еще страшней, чем крик. — Почему я не умерла?
— Ты привыкнешь… — сказала Тоня и сама испугалась того, что она произнесла. — И ходить будешь. Ведь ходят же люди… — Она растерянно замолчала.
Девочка медленно повернула голову и посмотрела на Тоню тяжелым взглядом.
— Привыкнешь… — сказала она с ненавистью. — Тебе легко говорить. У тебя руки-ноги целы. Что ты знаешь? — Она опять отвернулась к стенке.
Тоне была видна ее смуглая щека, завитки волос над розовым ухом и родинка, нежная коричневая родинка на шее. Она смотрела на эту родинку, не зная, куда деваться от жгучего стыда, проклиная себя за беспомощность.
— Что ты знаешь? — повторила девочка глухо. — Ничего ты не знаешь.
И вдруг Тоня неожиданно для себя самой не сказала, а как бы выдохнула:
— Нет, знаю.
Девочка молчала.
— Знаю, — повторила Тоня с отчаянным усилием. — Ты не думай, что я ничего не переживала, — продолжала она, лихорадочно соображая, что сказать дальше. — Я страшно много пережила.
Девочка по-прежнему не смотрела на нее. Потом мучительно помотала головой и укусила себя за палец.
— Замолчи, — сказала она сквозь зубы. — Пожалуйста, не говори больше ничего.
— Повернись ко мне! — сказала Тоня умоляюще. — Слышишь? Повернись ко мне! Я расскажу тебе то, чего никогда никому не рассказывала. Поняла? Расскажу тебе одной.
Девочка по-прежнему лежала лицом к стене.
— Понимаешь, — сказала Тоня шепотом. — Я люблю одного человека. Давно люблю, еще с восьмого класса. И вот можешь себе представить, что случилось. Он шел в школу и попал под трамвай. И ему отрезало ногу. Всю, до самого бедра. — Она остановилась, охваченная ужасом от собственной неожиданной выдумки.
Девочка молчала, повернувшись лицом к стене.
— Но сейчас он ходит, как все люди, — сказала Тоня дрожащим голосом. — Ты слышишь? Как все обыкновенные люди. Он кончил школу и выдержал экзамены на медицинский. Я провалилась, а он выдержал. И я его люблю. И я его всегда буду любить, всю жизнь.
Девочка продолжала молчать, глаза ее были закрыты.
— Ты слышишь меня? — спросила Тоня с отчаянием.
Девочка ничего не ответила.
Молчание тянулось долго, так долго, что у Тони остановилось дыхание. И вдруг губы девочки тихонько зашевелились, и она спросила, не поворачиваясь к Тоне:
— Как его зовут?
— Митя Чечик, — сказала Тоня и вдруг заплакала.
Она плакала оттого, что неожиданно для себя самой поняла, как сильно она любит Митю Чечика и как это было бы ужасно, если бы с ним действительно случилась беда. И еще оттого плакала, что поняла: она его все равно любила бы, что бы с ним ни случилось. Ей было бесконечно жалко девочку и Митю Чечика и почему-то было жалко и себя, и от этого она плакала еще горше и вместе с тем чувствовала охвативший ее странный пронизывающий холодок, похожий на ощущение счастья.
Девочка по-прежнему лежала, повернувшись лицом к стене, а Тоня продолжала что-то говорить, не вытирая глаз. Наконец она остановилась.
— Это хорошо, что ты его любишь, — сказала девочка хрипло, и губы ее задрожали.
— Послушай… — Тоня взяла ее за руку. — Теперь попробуй уснуть. Очень тебя прошу. Пожалуйста, попробуй уснуть.
— Только ты не уходи, — сказала девочка.
— Никуда я не уйду, что ты! Все время буду тут.
— Наверное, я никогда не смогу заснуть, — сказала девочка сонным голосом и тут же задышала глубоко и ровно.
Тоня сидела, боясь пошевелиться, боясь выпустить легкую горячую руку, доверчиво лежащую в ее ладони. Она внимательно разглядывала лицо девочки, раскрасневшееся то ли от сна, то ли от жара, — чужое лицо, которое сейчас стало для нее таким странно и мучительно знакомым. Спина Тони онемела, плечи болели, но она не шевелилась, продолжая смотреть на спящую, и вдруг почувствовала, что ей тоже ужасно хочется спать.
Тогда она тихонько повернулась и стала смотреть в окно, по-прежнему не выпуская легкой руки из своей ладони.
За окном стояла южная ночь. И высоко в небе мигал и светился старый зеленоватый ковшик созвездия Плеяды, показавшийся Тоне таким незнакомым, таким прекрасным и удивительным, словно она увидела его первый раз в жизни.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК