СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
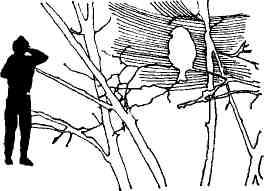
Было раннее утро, и небо, промытое влагой и прохладой короткой летней ночи, сияло голубизной. Медленно двигалось небольшое облачко, круглая тень его падала на блестящую, тяжелую, как ртуть, воду пруда.
По пруду плавал черный лебедь.
Там было много всяческой птицы, начиная от краснокрылых фламинго с декадентски длинными ногами и кончая обыкновенными домашними утками. Все птицы занимались своими птичьими делами или просто сидели стайкой на острове. Один черный лебедь непрестанно двигался по пруду; то в одном конце, то в другом виднелась его по-змеиному тонкая, гордая голова с алым, пылающим клювом.
Недалеко от берега на маленьком островке сидели важные и задумчивые пеликаны. Они долго глядели в воду, потом неторопливо сошли вниз и поплыли строем. Время от времени пеликаны, как по команде, разом опускали головы, раскрывая в воде громадные клювы. Зазевавшаяся рыбешка вплывала прямо в клюв, пеликаны делали такое движение головами, будто кланялись, и плыли дальше.
В этот ранний час в зоологическом парке было совсем пусто, и я не без смущения подумала, что посетители, в общем, его не украшают.
Звери и птицы значительно лучше чувствовали себя наедине с водой, листьями и травами, с живым и сильным солнечным светом, с молчаливой и доброй природой.
Лишь изредка по дорожкам проходили уборщицы и работники парка то с ведрами, то с метлами, то с кормом для зверей. И снова на песке аллей виднелись только подвижные тени да косые, горячие солнечные лучи.
Большой старый орел, похожий на рыцарский герб, неподвижно сидел на толстой ветке, отполированной его могучими когтями до зеркальной гладкости. Из-за скалы, неслышно ступая на мягких лапах, вышел медведь и вразвалку зашагал вдоль глубокого рва.
Маленькая, грациозная косуля, завидев меня, с детским любопытством вытянула голову, но тут же смутилась и ускакала прочь. Зебра, полосатая, как тент, паслась на лужайке. Откуда-то послышалось грозное и мощное мурлыканье. Быть может, это заговорил тигр? Звери начинали новый день, и я была свидетельницей их пробуждения…
По дорожке прошествовала низенькая толстая уборщица, держа под мышкой садовые грабли, и вошла в слоновник.
Под его гулкими вокзальными сводами стояла слониха Дженни. Вокруг нее бегал слоненок, неправдоподобно маленький по сравнению с матерью. На пористой серой коже слоненка виднелись редкие, толстые, как проволока, волоски.
Уборщица, открыв металлические ворота, вошла за высокую загородку, и я шагнула туда вслед за нею. Дженни, уставившись на меня маленькими, свиными глазками, вздохнула; могучее это дыхание обдало меня теплым ветром с ног до головы.
Толстая уборщица, что-то бормоча под нос, стала сметать граблями разбросанное по полу сено, а слоненок принялся кружить возле нее.
— А кто вчера мальчиковую шапку сжевал? — проворчала толстуха укоризненно. — Разве это подходящее дело для слона — чужие шапки кушать? Эх, ты!
Слоненок стал легонько приваливаться к ней, но уборщица ткнула его в бок локтем, и он остановился, замотав головой; длинные серые его уши раскачивались.
— Булку хочешь? — спросила уборщица строго. — Ты глазами не мигай, не подлизывайся…
Она протянула булку, слоненок осторожно взял ее хоботом и засунул в рот. Дженни продолжала стоять, чуть покачиваясь на месте. Толстуха, что-то приговаривая, наводила в слоновнике порядок. Слоненок теперь кружил возле меня, понемножку оттесняя от ограды. Он бегал, тряся ушами, высоко вскидывая ноги, — я помирала со смеху, глядя на его ужимки. И не успела я опомниться, как уже стояла далеко от ворот, а слоненок все кружил, оттесняя меня дальше и дальше, пока я не оказалась прижатой к самой стене.
Смысл происходящего не сразу дошел до меня.
Продолжая смеяться, я хотела пройти к воротам, но слоненок начал потихоньку приваливаться ко мне боком. В ту минуту я опустила глаза и увидела его ноги. Не поздоровится тому, на кого даже играючи наступит такая ножища… Я невольно попятилась, но дальше отступать было некуда: спина моя уперлась в стенку. Слоненок шумно вздохнул и еще придвинулся.
— Брысь! — закричала я дрогнувшим голосом. — Ишь какой…
Толстая уборщица обернулась на мой голос и бросилась мне на выручку.
— А ну, давай отсюда! — крикнула она, замахиваясь на слоненка граблями. — Разыгрался… И вы, гражданочка, тоже хороши: лезете к слону без всякого соображения. В нем, если хотите знать, тонна живого веса, прижмет вас — одно мокрое место останется. А ему что? Ему ничего! Давай, давай отсюда, безобразник!..
И она сердито ткнула его в бок маленьким толстым кулачком.
Слоненок весело побежал к матери, которая все покачивалась на месте. Я опрометью ринулась к выходу.
В это время в слоновник вошел высокий, худой человек. Небольшая седая его бородка была сбита набок ветром, изрядно потертая коричневая замшевая куртка хранила следы трубочного табака и пепла. Широкие брюки болтались на длинных, худых ногах. Лицо было в в резких морщинах, но глаза смотрели хитро и весело, с юношеским насмешливым блеском.
Я узнала его: это был профессор Корень. Много лет подряд он руководил научной работой, ведущейся в зоопарке. Он и жил на территории парка в маленьком домике рядом с лужайкой, где бродили за оградой олени.
— Здравствуйте, — сказал он мне суховато. — Догадываюсь, что привлекло вас сюда в столь раннее время. Ну что же, это может оказаться интересным…
— Как бы не пропустить! — вдруг забеспокоилась толстая уборщица. — За слонами разве что увидишь?
— Начнется не раньше чем через полчаса, — сказал Корень, словно речь шла не о затмении солнца, а о спектакле. Он мельком взглянул на часы и подошел к Дженни.
Слониха уставилась на него маленькими лукавыми глазками и перестала качаться. Они долго и внимательно смотрели друг на друга, потом Корень пощекотал палочкой ее ногу где-то на уровне колена, и слониха села, растянув ноги по прямой линии, как балерина, которая делает «шпагат». Профессор с серьезным выражением лица, словно делал что-то важное, потрепал ее огромное серое ухо и отошел. Дженни, вытянув хобот, осторожно и нежно подула на него.
— Ну что ж, пройдем по территории? — сказал задумчиво Корень, ни к кому не обращаясь.
Он направился к выходу, я зашагала вслед за ним. Слониха неторопливо встала. Когда я обернулась, она стояла на прежнем месте и снова раскачивалась, словно дуб под ветром.
Утро разгоралось, парк блестел и золотился от щедрого солнечного света. Из глубины аллеи нерешительно закуковала кукушка, суля кому-то долгую жизнь, и тут же, заглушая ее, раздался пронзительный металлический крик: это кричали попугаи.
На аллее, широко расставив ноги, стоял крепкий, мускулистый человек в голубой рубашке с двумя карманчиками и свободных полотняных брюках. Темные очки защищали его глаза от солнца, и я тотчас же с огорчением подумала, что у меня темных очков нет, а без них будет очень трудно наблюдать затмение. Подняв голову, человек смотрел прямо на солнце.
— Мой сын, Николай Евгеньевич Корень, — проговорил профессор, махнув в его сторону худой загорелой рукой. — Единственный отпрыск, так сказать. Прошу познакомиться.
Единственный отпрыск повернул к нам голову и добродушно улыбнулся. На вид ему казалось лет тридцать. Он был не похож на отца — более широкий в плечах, коренастый, с мускулистыми, сильными ногами в спортивных башмаках. Но ироническая складка в правом уголке рта, твердый подбородок да густые, подвижные брови — все это как будто было отцовское.
Наступило молчание.
— Ваш сын работает по той же специальности, что и вы, Евгений Петрович? — прокашлявшись, спросила я, не зная, с чего начать разговор.
— Математик, — вздохнул отец. — Сейчас диссертацию пишет. Тема такая, что без рюмки водки и не выговоришь… — Он усмехнулся, и от этой быстрой озорной усмешки лицо его сразу помолодело. — Я, признаться, в этой науке всегда был слаб, — сказал он заговорщицким голосом. — Сколько лет подряд он меня уверяет, что математика полна поэзии, а я все не верю…
— Старые семейные разногласия! — добродушно засмеялся сын. — Твоей гостье, папа, это абсолютно неинтересно.
— Напротив! — сказала я с преувеличенным жаром, ибо так же, как профессор, была глуха к математике. — Какой же теме посвящена ваша работа?
— Ну, это долгий и скучный для вас разговор… — Корень-младший махнул рукой. Но на его лице я увидела то виноватое смущение и скрытую застенчивую тревогу, какие всегда пробуждаются в человеке, когда разговор заходит о самом для него главном, самом заветном и он боится, что дорогое ему дело может показаться кому-нибудь неинтересным, незначительным… — Пройдемте лучше по парку, — добавил он.
Я не нашлась что сказать. Сын взял отца под руку, и они зашагали рядышком по аллее.
Навстречу нам все чаще попадались девочки и мальчики в белых рубашках с пионерскими галстуками. Лица их были озабочены и исполнены серьезности. То и дело они значительно поглядывали на часы. У одних ребят часы были надеты на руку, причем по широте ремня, болтавшегося на тонком загорелом, порядком исцарапанном запястье, можно было без труда догадаться, что часы отцовские и даны только на этот день. Другие с важностью лезли в карман, чтобы вынуть оттуда круглые, плоские часы, а то и лихо щелкнуть крышкой. У большинства же на шеях красовались обыкновенные будильники, подвешенные на шнурок или веревочку. На ходу такой будильник качался из стороны в сторону, а иногда с размаху глухо стукался о ребра владельца.
— Юные натуралисты, — пробормотал Евгений Петрович. — При исполнении обязанностей, так сказать. Будут записи делать во время затмения. Все запишут истово: как олень почесался, как мартышка чихнула… — Профессор покачал головой. — Но иногда, можете представить, такое подметит эта мелюзга, что просто диву даешься!
— Помнишь, каким я был юннатом? — задумчиво спросил Корень-младший.
Отец как-то странно покосился на него и ничего не ответил.
Мы дошли до лужайки. Впереди были видны огромные клетки, в самой крайней, недалеко от нас, лежал тигр. Он дремал, положив голову на вытянутые лапы. На секунду он приоткрыл глаза. В глубине рыжих зрачков я увидела такую холодную, злую силу, такую нелюдимую тоску, что по моей спине прошла дрожь.
— Не люблю я, грешница, тигров… — ни к селу ни к городу пробормотала я и смутилась.
Отец и сын деликатно промолчали.
Отовсюду неслось то фырканье, то курлыканье, то визг обезьян, то воркованье горлинок. Мы шли мимо вольер и клеток, мимо лужаек, по которым бегали на свободе животные…
День был ясен, чист, безветрен. И вдруг повеял легкий влажный ветерок, словно потянуло из оврага. Солнечные блики, лежащие на дорожках, чуть потускнели.
Два юных натуралиста, дежуривших у клетки с тигром, как зачарованные, уставились на свои будильники и тут же принялись что-то лихорадочно записывать.
Корень-младший поднял голову и глубоко, с удовольствием вдохнул воздух.
— Эге! — сказал он весело. — Начинается как будто?
Стало темнеть.
Это не была та пасмурность, которая приходит, когда небо заволакивает тучами. Не была это и осенняя хмурь с ее набрякшей, свинцовой чернотой. Это была скорее синева сумерек. И вместе с тем в ней не чувствовалось того кроткого, умиротворяющего покоя, какой приносит природа, готовящаяся к вечернему сну. Чем-то тревожным и мрачным веяло от густой сероватой синевы, ползущей по аллеям парка. Все потускнело; стала серой и мертвой вода пруда, исчез живой блеск молодой листвы.
Пронесся, зашумев ветвями, порывистый ветер. И в его неожиданно резкой свежести тоже почудилось что-то тревожное.
Павлины, которые только что, распустив хвосты, разгуливали со своими павами по зеленой траве, взлетели на ветки, явно собираясь спать. Вслед за ними, поверив в приближение ночи, гуськом, опустив маленькие глупые головки, побежали к деревьям цесарки. На пруду уже не было видно беспокойного черного лебедя: очевидно, и он отправился к своему гнезду…
— А где дикобраз? — почему-то шепотом спросила я.
Клетка дикобраза, к которой мы подошли, казалась пустой. И вдруг послышалось легкое, осторожное постукиванье лапок, короткое пофыркиванье: из домика вылез его владелец. На длинных, крепких иглах дикобраза, как бабочки на булавках, торчало несколько сухих листьев; когда он двигался, листья тихонько шуршали. Очевидно, и дикобраз, ведущий ночной образ жизни, решил, что день закончился, и отправился на обход своих владений.
— Ну, что вы скажете? — удивился Корень-младший. Он стоял, повернувшись боком к клетке дикобраза, и прислушивался. — Неужели и ночной бродяга поверил, что ночь наступила, — пошел к кормушке?
Отец ничего не ответил. Чем дальше, тем больше лицо его мрачнело: Евгений Петрович явно был чем-то недоволен.
Издали послышался величавый, грозный звук. Протяжный, с долгими рокочущими перекатами, он нарастал, усиливался, потом перешел в глухое басовое ворчанье.
Это львы начали вечерний концерт.
Сумерки совсем сгустились.
Тяжелое, темное небо низко висело над деревьями. Оно не сулило дождя с его освежающей душистой прохладой. Оно не обещало ни молний, ни орудийных раскатов грома. Это было бесплодное, пустынное, глухое небо, несущее только мрак.
Солнце закрылось почти полностью. Выбиваясь из-под тяжелой тени, щемяще пылал раскаленный добела узкий серпик — все, что осталось от дневного светила.
Но потом померк и он.
Засунув головки под крылья, павлины крепко спали, их хвосты свисали с веток вниз, как роскошные опахала. Спали на ветках и цесарки.
Профессор презрительно покосился на них.
— Я понимаю, куриные… — сказал он, пожимая плечами. — Этих дураков легко обмануть, они поверят чему угодно. Голову под крыло — и спят! — Профессор помолчал. — Но непарнокопытные! — с ударением сказал он и возмущенно посмотрел на зебру. — И она туда же, решила, что наступила ночь… Нет, никогда, никогда не ждал я такого поведения от зебры!
И он негодующе отвернулся.
Под деревом с павлинами стоял мальчик. Он ожесточенно тряс свой будильник, подносил его к уху и снова тряс, но будильник был нем и неподвижен. Отчаявшись, юный натуралист бросил неравную борьбу, и остановившийся будильник бесцельно повис на его груди, тяжело оттягивая шнурок. Поглядывая на павлинов, мальчик принялся что-то торопливо записывать.
Но от резкого нажима карандаш сломался.
Глаза юнната наполнились слезами. Стараясь не мигать, он глядел блестящими от слез глазами на тетрадь и упрямо продолжал царапать бумагу сломавшимся карандашом.
Рыжая востроглазая девочка, такая голенастая и неуклюжая, какой только может быть девочка в двенадцать лет, тоже подошла к дереву с павлинами.
— Митя, — сказала она робко, — ты не расстраивайся. Ты смотри на мои часы, Митя, я стану рядом… Хорошо, Митя?
Митя что-то угрюмо буркнул и отвернулся. С упорством отчаяния он продолжал царапать бумагу обломком карандаша, но в тетради оставались только косые рваные рубцы да извилистые вмятины.
— Возьми мой карандаш, Митя! — преданно сказала девочка. Она глядела на него полными любви и восхищения глазами. Девочка вся преобразилась, похорошела, веснушчатые щеки ее покрылись румянцем. — Возьми, пожалуйста! — повторила она, сияя. — А я и без карандаша, я как-нибудь так запомню… Хорошо?
Митя, не глядя, взял из ее рук карандаш.
— Ладно, — сказал он сердито. — Становись рядом. Только не мешай записывать, слышишь? И головой не крути, а то я отвлекаюсь.
— Я не буду мешать, Митечка… — чуть слышно сказала девочка. Она стала рядом с ним под деревом и замерла, благоговейно и счастливо глядя, как Митя, наморщив лоб, сосредоточенно записывает свои наблюдения.
А поодаль, у куста жасмина, стоял другой мальчик.
Он не смотрел на часы и ничего не записывал. Он, очевидно, даже не слыхал, о чем говорил Митя со своей подругой. Широко раскрытыми блестящими глазами он глядел на преобразившийся мир, всем существом уйдя в созерцание происходящих в этом мире величественных и необычайных событий. Он слушал шум ветра, шелест трав, скрип песка, он вдыхал влажный, посвежевший воздух, душа его была потрясена тревожной, небывалой мглой, пустынным небом, тенью, поглотившей солнце… Весь вытянувшись, побледнев от волнения, как завороженный, стоял он у цветущего куста.
— Узнаю поэта… — негромко сказал Евгений Петрович, глядя на него.
— Ты о чем, отец? — ровным голосом спросил Корень-младший. — О чем ты говоришь?
По лицу отца прошла тень. Он быстро поглядел на сына и отвернулся, ничего не ответив.
Мы подошли к высокой загородке, за которой беспокойно бегало несколько больших собак. Они то останавливались и, задрав широколобые головы, тревожно нюхали воздух, то снова принимались бегать из угла в угол. Беспокойство, разлитое в природе, по-видимому, передалось им, и рослые поджарые псы, толкая друг друга, носились вдоль загородки.
Профессор, открыв своим ключом калитку, вошел туда, опершись на руку сына. Я сунулась вслед за ними: собаки меня ни разу в жизни не кусали, и я не боялась их.
— Это волки, — сухо сказал профессор. — Не советую вам, знаете…
Попятившись, я остановилась у ограды. Большой волк, с широкой, могучей грудью, подбежал к профессору, подпрыгнув, уперся ему в грудь лапами и глядел темными, горячими глазами прямо ему в лицо, словно ждал от человека объяснения и своей тревоге и непокою, обуявшему природу. Профессор очень серьезно и, как мне показалось, уважительно смотрел на волка и что-то тихонько приговаривал.
— Ну, успокойся, умница… — послышалось мне. — У, какой красивый, какой ласковый…
— Размяк отец! — засмеялся Корень-младший. — Нашел наконец среди всех своих подопечных существо с понятием. А волки даже в затмении солнца разобрались: умны, как дьяволы…
Он стоял посреди загородки, грызя травинку. Волки, видимо, давно привыкнув к нему, не обращали на него никакого внимания, но и не подходили, как к Евгению Петровичу. Насторожив уши и опустив хвосты, они по-прежнему тревожно нюхали воздух. Лишь самый большой смирно стоял, прижавшись к ноге профессора.
Ветер утих, но неожиданно наступившая тишина казалась тягостной.
Краски природы поблекли, будто их затянуло пеплом. Исчезло все, чем так щедро и радостно обласкало нас утро: и птичий щебет, и подвижные тени на дорожках, и золото лучей, и высокая синева неба.
Все покрыла тусклая, серая мгла. В ней было что-то мертвое и безнадежное. Страх смерти коснулся моей души. Мне вдруг начало казаться, что я никогда больше не увижу солнца.
В смятенье я посмотрела на Николая Кореня.
Он о чем-то задумался, по-прежнему грызя травинку. Свежее, твердо очерченное его лицо было внимательно и спокойно: он слушал голос природы. И от его коренастой фигуры, от больших, сильных рук, от того, как внимал он живому дыханию жизни, на меня повеяло таким хозяйским спокойствием, такой победительной силой, что я устыдилась своей душевной слабости.
Глубоко вздохнув, я тоже прислушалась.
Мне почудилось, что в глубине ветвей я различаю робкую, тихую возню, шуршанье, короткий сонный щебет.
За верхушками деревьев по небу двинулась еле заметная голубизна. Она ширилась, как бы смывая пепельный, мертвящий налет. Чуть сверкнула вода в пруду, по листве скользнул струящийся, едва заметный блеск. Солнце еще было закрыто тенью. Но в ветвях деревьев все усиливалось шуршанье, тихая возня: птицы чувствовали возвращение света.
Тонкий луч, похожий на золотую проволоку, протянулся сквозь ветви на аллею. Из-под тени медленно показался узкий расплавленный серпик. По небу осторожно, как бы пробуя силу, разливалось розовое тепло.
На наших глазах происходило великое чудо жизни.
Краски менялись: небо стало розовым, тропинки — синими, деревья — золотыми. Мягкий утренний ветер тронул листву, и она ответила ему доверчивым шелестом. Звонко и счастливо запела первая птица. Синие тени на дорожках таяли, теперь синева все шире захватывала небо.
И вдруг, наконец прорвавшись, хлынул с неба могучий сверкающий поток света.
И тотчас же все ожило.
На дорожках замелькали тени, вспыхнул пруд, отражая солнечные лучи. С низким бархатным гуденьем пролетел шмель. Павлины, тяжело слетев с ветвей, как ни в чем не бывало двинулись на лужайку. Беспокойный черный лебедь снова начал кружить по блестящей воде.
Легкие блики легли на стволы деревьев. Утро поднималось над землей, дыша теплом и благоуханьем.
Профессор стоял, подняв голову к небу. Никогда не думала я увидеть на этом сухом, жестковатом лице такое бесконечно мягкое, почти детское восхищенье.
А его сын все продолжал слушать голос природы. Он глядел прямо на солнце сквозь свои черные очки. Лицо его было залито светом.
— Ну, что вы видите? — спросила я его нетерпеливо. — Совсем кончилось затмение? Господи, как жаль, что у меня нет темных очков! Расскажите же, что вы видите?
Николай Корень молчал. Я повторила вопрос, сердито уставившись на него, и вдруг запнулась.
Меня поразила странная неподвижность его лица. Он не щурился от солнца; ничего в его чертах не отвечало игре лучей, ничто не отзывалось на них. Это было лицо человека, который не видит солнца, а только осязает его тепло.
Я стояла, оцепенев, не в силах поверить своей догадке.
На мою руку осторожно легла сухая, горячая ладонь, — Евгений Петрович отвел меня в сторону.
— Дело вот в чем… — тихо сказал он, глядя куда-то вбок, и запнулся.
Мимо нас с видом победителя прошел Митя с рыжей девочкой, держа в руках густо исписанную тетрадь. Синица, вертя головкой, охорашивалась на ветке. Внутри вольеры промчалась белка. Над прудом медленно плыло наполненное светом облако.
Это была жизнь во всей ее теплой прелести, в бесконечно милых, обыденных подробностях.
Я смотрела на человека, который ничего этого не видел: ни красок неба, ни цвета листвы, ни рисунка теней, ни объема облака. Он не видел, как вернулось солнце, как хлынули, сияя, солнечные лучи. И сердце мое содрогнулось, когда я поняла это.
— Он потерял оба глаза в сорок четвертом году, после ранения, — неловко сказал Евгений Петрович, по-прежнему не глядя на меня. — Уже будучи слепым, кончил университет. Как вы изволили слышать, защищает диссертацию. Ни от чего не хочет отказаться — ходит плавать в бассейн, зимой катается на коньках… Молодчина, в общем… — сказал он, покашляв, и замолчал.
Обернувшись, он посмотрел на сына.
Тот стоял, подставляя лицо теплоте лучей. На щеках его лежал смуглый молодой румянец. Евгений Петрович глядел на него с нежностью, с гордостью… Сын провел по лицу рукой, будто умылся солнцем, и осторожно шагнул вперед.
А отец все глядел на него, не отрывая глаз. Он словно хотел впитать идущий от сына ясный и чистый свет духовной силы, — великий свет, который может озарить путь человеку даже тогда, когда у него навеки отнята бессмертная краса торжествующего солнечного дня.
1955
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК